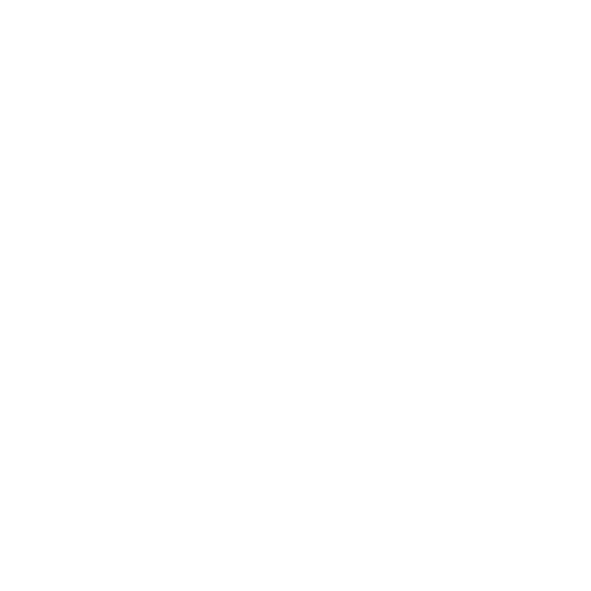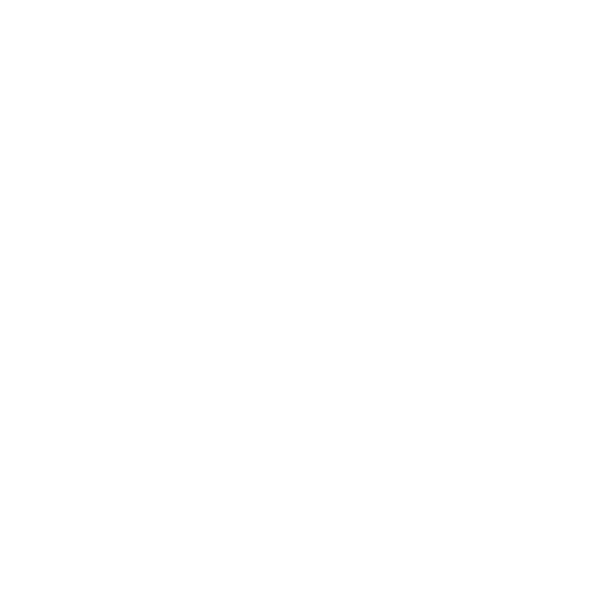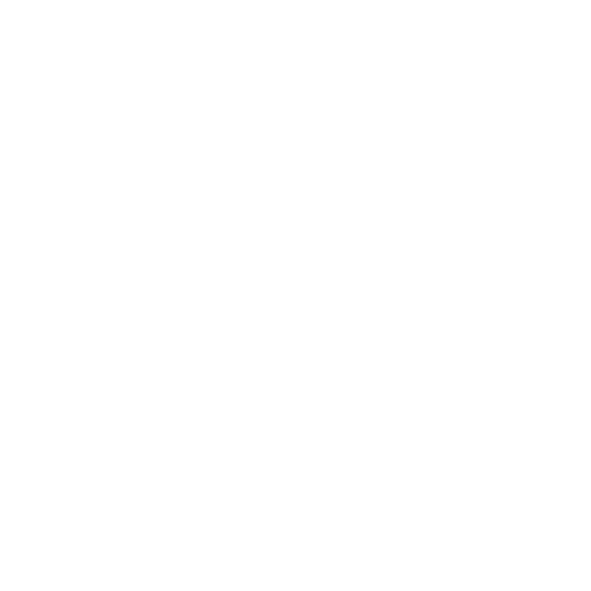круглый стол
Этика в отношениях «Учитель – Ученик»
или профилактика харассмента* в школах
*Английское слово «harassment» описывает ситуации и поведение,
систематически нарушающее границы других людей,
психологическое давление, притеснение, сексуальные домогательства.
*Английское слово «harassment» описывает ситуации и поведение,
систематически нарушающее границы других людей,
психологическое давление, притеснение, сексуальные домогательства.
1. Что такое насилие в школе?
2. Где проходят границы учебного заведения?
3. Какова роль родителей?
4. Какие функции выполняет школьный психолог?
5. Какие законы регулируют отношения «учитель-ученик»?
6. Какой должна и какой не должна быть идеология школы для профилактики насилия?
7. Способы и возможности развития сексуальной грамотности в школе.
2. Где проходят границы учебного заведения?
3. Какова роль родителей?
4. Какие функции выполняет школьный психолог?
5. Какие законы регулируют отношения «учитель-ученик»?
6. Какой должна и какой не должна быть идеология школы для профилактики насилия?
7. Способы и возможности развития сексуальной грамотности в школе.
Людмила Петрановская, Наталия Кедрова, Анна Шварц, Евгения Литвин, Надежда Монастырская, Алексей Макаров, Татьяна Никонова
Участники круглого стола
В дискуссии приняли участие специалисты из разных сфер: психологи, педагоги, юристы, журналисты. Модераторы стола:
Полина Солдатова и Елизавета Заикина
Полина Солдатова и Елизавета Заикина
Людмила Петрановская
семейный психолог, публицист, автор книг по психологии для родителей «Что делать, если…» и других
Наталия Кедрова
психолог, доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ, руководитель факультета «Гештальт-терапия с семьями и детьми» МГИ, организатор психологической службы школы «Муми-Тролль», автор книги «Азбука эмоций»
Анна Шварц
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник факультета психологии МГУ, выпускница школы №57
Евгения Литвин
филолог, антрополог, аспирант Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, выпускница Лиги школ
Надежда Монастырская
психолог, нейропсихолог, автор научно-популярных статей для родителей и комплекта книг «Сказки Матушки Земли. Книга для всей семьи о том, почему каждому ребенку нужен взрослый», выпускница Лиги школ
Алексей Макаров
учитель обществознания школы "Интеллектуал", член Правозащитного центра "Мемориал"
Татьяна Никонова
журналист, преподаватель, автор секс-блога Sam Jones's Diary
Содержание
1
Представление участников.
Обозначение основных тем для обсуждения
Обозначение основных тем для обсуждения
2
Что такое харассмент и абьюз?
Допустимые отношения "учитель-ученик". Вопросы из зала
Допустимые отношения "учитель-ученик". Вопросы из зала
3
Пример работы психологический службы в школе Муми Тролль.
Как снизить вероятность харассмента в школах?
Возможности для саморегуляции.
Как снизить вероятность харассмента в школах?
Возможности для саморегуляции.
4
Вопросы и комментарии из зала.
Какие сегодня есть возможности и ограничения у сексуального образования в школах?
Выводы
Какие сегодня есть возможности и ограничения у сексуального образования в школах?
Выводы
Вступление
Наверное, надо констатировать, что школьная жизнь во многом состоит из насилия. (Л. Петрановская)
Sexprosvet 18+, Таня: Научно-просветительское сообщество Sexprosvet18+ организует конференции, лектории и сегодня круглый стол. Раз вы здесь, то знаете, о чём он. Подробнее о нём расскажут модераторы Полина Солдатова и Елизавета Заикина.
Заикина: В первую очередь, главной темой круглого стола будем обсуждать этику в отношениях «ученик-учитель», этику в школах и профилактику насилия в школах. Тема стола является логическим продолжением темы насилия, начатой ещё летом с флешмоба #ЯнеБоюсьСказать. И мы очень рады, что начали об этом говорить. И по регламенту. Анонимизируйте ваши примеры, пожалуйста. И ещё одна вещь: каждые 15 минут или с окончанием смыслового блока мы будем делать паузы для комментариев и вопросов.
Солдатова: Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Мы хотим представить наших спикеров. И первый вопрос, который задаём всем: почему вы согласились участвовать в таком мероприятии? Почему решили прийти? Людмила Петрановская, семейный психолог, пожалуйста.
Петрановская: Мне кажется, тема правда очень важная и болезненная, табуированная. Поэтому надо как-то начинать про это говорить, разбираться.
Солдатова: Алексей Макаров, учитель обществознания школы «Интеллектуал».
Макаров: Мне это важно как учителю, который работает с детьми. Тема важная, она плохо проговорена, плохо прописана. В связи с этим хорошо бы, чтобы это как-то изменилось.
Солдатова: Анна Шварц, психолог.
Шварц: Почему я пришла сюда? Профессионально, несмотря на то, что я психолог, разговор от меня далёк. Но в связи с кейсом 57 школы я столкнулась с этими темами, поэтому тема стола очень важная и должна открыто обсуждаться. И для меня это шаг такой, про открытие дверей.
Солдатова: Татьяна Никонова, журналист, автор секс-блога Sam Jone's Diary.
Никонова: Я каждый день отвечаю на вопросы о сексе, которые задают мне люди анонимно. И мне часто задают вопросы молодые люди. И по тому, какие вопросы и как они задают, я вижу, что они не очень могут расставить границы, их определить. И я вижу, что им требуется много помощи, поэтому я пришла к тому, что в школах обязательно надо вводить сексуальное образование. Но для начала мы должны разобраться с тем, как относятся к сексу в самих школах и насколько защищены могут быть дети от людей, которые их окружают.
Солдатова: Наталия Кедрова, семейный психолог, организатор психологической службы школы «Муми-Тролль».
Кедрова. Я не совсем семейный психолог, я гештальт-терапевт и мне приходится работать с последствиями всяких неприятных, скользких ситуаций, которые затрагивают и детей, и взрослых — всех, кого это непосредственно касается, и всех, кто находится рядом. И правда важно создание какого-то пространства, где можно будет подобрать язык, способ говорить об этих ситуациях.
Солдатова: Надежда Монастырская, психолог, нейропсихолог.
Монастырская. Я пришла сюда по понятным причинам — у меня есть интерес как у выпускницы «Лиги школ». Я узнала изнутри многие процессы, общалась с людьми из других школ с похожими историями, и обнаружилось много похожего. Поэтому интересно целиком понять и осмыслить (ситуацию), это раз. С профессиональной точки зрения: я работаю с семьями и детьми, работаю по ту сторону школы. Так или иначе, есть проблемы, связанные с насилием в школе. У меня есть представления, что можно сделать с семьёй в таких ситуациях, я буду ими делиться. А также уместно соединить эти знания с теми, кто внутри школ. Ну и как у мамы у меня тоже есть интерес, так как мой ребёнок тоже будет учиться, взаимодействовать в школе. Хочется для него благоприятную среду, конечно.
Солдатова: Евгения Литвин, филолог, антрополог.
Литвин: Есть несколько причин, почему я здесь. Я тоже выпускница «Лиги школ» и тоже сталкивалась с этими процессами. С другой стороны, я работаю в школах. Прямо сейчас не работаю, но до этого работала, в том числе в нестандартных. Меня интересуют разные педагогические эксперименты как практика и теоретика. Потому что то, что происходило в советских школах в 80-е и 90-е гг очень интересно мне как ученому, я антрополог, и как педагогу. Мне хотелось бы всё это обсудить.
Солдатова: Спасибо большое.
Заикина: Тогда, чтобы мы все были в одном семантическом поле, зададим первый вопрос. Что такое насилие в школе? Какое оно бывает? Что является, что не является насилием?
Никонова: Я думаю, что для начала нам нужно сузить рамки. Потому что когда мы говорим о насилии в школах — это многогранный процесс. Он может включать в себя насилие между школьниками. И если мы сейчас будем обсуждать именно насилие в школе во всей его широте, то мы не доберёмся до темы нашей встречи.
Макаров: Как школьный учитель скажу, когда мы говорим про насилие в школе со стороны учителя, то обычно мы подразумеваем что-то существенное, физическое наказание, например подзатыльник. И оно понятно, и описано, и недопустимо. Но существует огромная тема, по поводу которой учителя сейчас спорят, является ли это насилием, — это вопрос с мобильными телефонами. Отнимать/не отнимать? Когда возвращать? После урока/родителю? Можно или нельзя смотреть, что ребенок пишет и так далее. И это одна из самых распространенных форм насилия в московских школах. Разумеется, и психологическое насилие тоже есть. Когда ученика унижают, когда говорят, что он глупый и так далее. Вот, примерно такие рамки.
Петрановская: Наверное, надо констатировать, что школьная жизнь во многом состоит из насилия. Начать с того, что заставить десятилетнего мальчика 45 минут сидеть смирно — это уже должно приравниваться к пыткам. И действительно много эмоционального насилия, оскорбительного отношения, обесценивания. Много насилия между детьми, много провоцирующего насилия в сторону семьи. Когда в дневник пишут «примите меры», то вряд ли речь о покупке мороженого. К сожалению, та школа которую мы имеем, которая нам досталась, она, в общем-то, пронизана насилием, так как строилась по прусской модели. Это подразделение общества армейское, готовит людей к подчинению, сама система так устроена. С другой стороны, если мы посмотрим чуть извне, то увидим, сколько насилия по отношению к школе в целом, много насилия по отношению к учителям. Учителя находятся в таком изменённом состоянии сознания, потому что они находятся под очень сильным давлением. То, как по-хамски с ними разговаривают иногда, это удивительно. Поэтому в школе насилия очень много. Это надо учитывать, когда мы говорим о сексуальном абьюзе. Оно не одно. Там, где есть насилие, есть все его формы.
Кедрова: Школа – это территория принуждения. По договоренности, это пространство, где детей принуждают к образованию. Домашние задания, определенные требования, например: выучить стихотворение такое, а не другое, вести себя специальным образом. И я думаю, что школа таким образом строилась и важно разделить некоторое необходимое принуждение и то, что можно называть насилием – сильным нарушением физических и психологических границ. В 90-ые годы мы оказались в ловушке, потому что разные хорошие по сути люди попытались изменить позицию принуждения к обучению на соблазнение к обучению. Во многих школах стала развиваться идея соблазнить ребенка, чтобы ему захотелось учиться. Но когда это стало развиваться, мы оказались в другой ловушке, о которой сейчас и говорим.
Макаров: Скажу про 90-ые, поскольку сам стал жертвой этого. Частично эта ситуация связана с историей нашего образования в 90-ые, когда люди стали делать любое другое антисоветское образование, неважно, имело это смысл или не имело. У меня литературы в школе не было, потому что в советской школе литература была. Все было наоборот. Рамки ещё не существовали, что можно, а что нельзя, и в то время возникло много разных явлений, не всегда положительных. Вообще общество изменилось в 90-ые, и ситуация в 80-ых на это повлияла.
Шварц: Я хотела бы разделить, что такое насилие, а что – нет. Ученик и учитель — это уже заведомо две формализованные, иерархические роли. Принуждение предполагается. Пока это принуждение в рамках заранее описанных границ, правил, то это не насилие, а выполнение договорённостей. Как только мы переходим в межличностное общение, дополнительные активности, используя при этом поле иерархий, то тут мы сталкиваемся с насилием.
Монастырская: На самом деле есть две принципиально разные формы насилия. Одно — это принижение учеников, физическое насилие. Тут учитель имеет над учеником власть. А другая ситуация — когда учитель становится эмоционально значимой фигурой для ребёнка. И вот это как раз почва для такого абьюза, потому что менее однозначно выглядит со стороны. Как раз то самое соблазнение. Вот эта сторона насилия – замалчиваемая тема. Нам надо для начала найти слова, описывающие и называющие это. Почему мы понимаем, что это делать нельзя. С принуждением можно работать – профилактика, просвещение, а когда ребёнок уже во власти эмоциональной зависимости, то тут надо искать другие способы работы с этим.
Заикина: В первую очередь, главной темой круглого стола будем обсуждать этику в отношениях «ученик-учитель», этику в школах и профилактику насилия в школах. Тема стола является логическим продолжением темы насилия, начатой ещё летом с флешмоба #ЯнеБоюсьСказать. И мы очень рады, что начали об этом говорить. И по регламенту. Анонимизируйте ваши примеры, пожалуйста. И ещё одна вещь: каждые 15 минут или с окончанием смыслового блока мы будем делать паузы для комментариев и вопросов.
Солдатова: Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Мы хотим представить наших спикеров. И первый вопрос, который задаём всем: почему вы согласились участвовать в таком мероприятии? Почему решили прийти? Людмила Петрановская, семейный психолог, пожалуйста.
Петрановская: Мне кажется, тема правда очень важная и болезненная, табуированная. Поэтому надо как-то начинать про это говорить, разбираться.
Солдатова: Алексей Макаров, учитель обществознания школы «Интеллектуал».
Макаров: Мне это важно как учителю, который работает с детьми. Тема важная, она плохо проговорена, плохо прописана. В связи с этим хорошо бы, чтобы это как-то изменилось.
Солдатова: Анна Шварц, психолог.
Шварц: Почему я пришла сюда? Профессионально, несмотря на то, что я психолог, разговор от меня далёк. Но в связи с кейсом 57 школы я столкнулась с этими темами, поэтому тема стола очень важная и должна открыто обсуждаться. И для меня это шаг такой, про открытие дверей.
Солдатова: Татьяна Никонова, журналист, автор секс-блога Sam Jone's Diary.
Никонова: Я каждый день отвечаю на вопросы о сексе, которые задают мне люди анонимно. И мне часто задают вопросы молодые люди. И по тому, какие вопросы и как они задают, я вижу, что они не очень могут расставить границы, их определить. И я вижу, что им требуется много помощи, поэтому я пришла к тому, что в школах обязательно надо вводить сексуальное образование. Но для начала мы должны разобраться с тем, как относятся к сексу в самих школах и насколько защищены могут быть дети от людей, которые их окружают.
Солдатова: Наталия Кедрова, семейный психолог, организатор психологической службы школы «Муми-Тролль».
Кедрова. Я не совсем семейный психолог, я гештальт-терапевт и мне приходится работать с последствиями всяких неприятных, скользких ситуаций, которые затрагивают и детей, и взрослых — всех, кого это непосредственно касается, и всех, кто находится рядом. И правда важно создание какого-то пространства, где можно будет подобрать язык, способ говорить об этих ситуациях.
Солдатова: Надежда Монастырская, психолог, нейропсихолог.
Монастырская. Я пришла сюда по понятным причинам — у меня есть интерес как у выпускницы «Лиги школ». Я узнала изнутри многие процессы, общалась с людьми из других школ с похожими историями, и обнаружилось много похожего. Поэтому интересно целиком понять и осмыслить (ситуацию), это раз. С профессиональной точки зрения: я работаю с семьями и детьми, работаю по ту сторону школы. Так или иначе, есть проблемы, связанные с насилием в школе. У меня есть представления, что можно сделать с семьёй в таких ситуациях, я буду ими делиться. А также уместно соединить эти знания с теми, кто внутри школ. Ну и как у мамы у меня тоже есть интерес, так как мой ребёнок тоже будет учиться, взаимодействовать в школе. Хочется для него благоприятную среду, конечно.
Солдатова: Евгения Литвин, филолог, антрополог.
Литвин: Есть несколько причин, почему я здесь. Я тоже выпускница «Лиги школ» и тоже сталкивалась с этими процессами. С другой стороны, я работаю в школах. Прямо сейчас не работаю, но до этого работала, в том числе в нестандартных. Меня интересуют разные педагогические эксперименты как практика и теоретика. Потому что то, что происходило в советских школах в 80-е и 90-е гг очень интересно мне как ученому, я антрополог, и как педагогу. Мне хотелось бы всё это обсудить.
Солдатова: Спасибо большое.
Заикина: Тогда, чтобы мы все были в одном семантическом поле, зададим первый вопрос. Что такое насилие в школе? Какое оно бывает? Что является, что не является насилием?
Никонова: Я думаю, что для начала нам нужно сузить рамки. Потому что когда мы говорим о насилии в школах — это многогранный процесс. Он может включать в себя насилие между школьниками. И если мы сейчас будем обсуждать именно насилие в школе во всей его широте, то мы не доберёмся до темы нашей встречи.
Макаров: Как школьный учитель скажу, когда мы говорим про насилие в школе со стороны учителя, то обычно мы подразумеваем что-то существенное, физическое наказание, например подзатыльник. И оно понятно, и описано, и недопустимо. Но существует огромная тема, по поводу которой учителя сейчас спорят, является ли это насилием, — это вопрос с мобильными телефонами. Отнимать/не отнимать? Когда возвращать? После урока/родителю? Можно или нельзя смотреть, что ребенок пишет и так далее. И это одна из самых распространенных форм насилия в московских школах. Разумеется, и психологическое насилие тоже есть. Когда ученика унижают, когда говорят, что он глупый и так далее. Вот, примерно такие рамки.
Петрановская: Наверное, надо констатировать, что школьная жизнь во многом состоит из насилия. Начать с того, что заставить десятилетнего мальчика 45 минут сидеть смирно — это уже должно приравниваться к пыткам. И действительно много эмоционального насилия, оскорбительного отношения, обесценивания. Много насилия между детьми, много провоцирующего насилия в сторону семьи. Когда в дневник пишут «примите меры», то вряд ли речь о покупке мороженого. К сожалению, та школа которую мы имеем, которая нам досталась, она, в общем-то, пронизана насилием, так как строилась по прусской модели. Это подразделение общества армейское, готовит людей к подчинению, сама система так устроена. С другой стороны, если мы посмотрим чуть извне, то увидим, сколько насилия по отношению к школе в целом, много насилия по отношению к учителям. Учителя находятся в таком изменённом состоянии сознания, потому что они находятся под очень сильным давлением. То, как по-хамски с ними разговаривают иногда, это удивительно. Поэтому в школе насилия очень много. Это надо учитывать, когда мы говорим о сексуальном абьюзе. Оно не одно. Там, где есть насилие, есть все его формы.
Кедрова: Школа – это территория принуждения. По договоренности, это пространство, где детей принуждают к образованию. Домашние задания, определенные требования, например: выучить стихотворение такое, а не другое, вести себя специальным образом. И я думаю, что школа таким образом строилась и важно разделить некоторое необходимое принуждение и то, что можно называть насилием – сильным нарушением физических и психологических границ. В 90-ые годы мы оказались в ловушке, потому что разные хорошие по сути люди попытались изменить позицию принуждения к обучению на соблазнение к обучению. Во многих школах стала развиваться идея соблазнить ребенка, чтобы ему захотелось учиться. Но когда это стало развиваться, мы оказались в другой ловушке, о которой сейчас и говорим.
Макаров: Скажу про 90-ые, поскольку сам стал жертвой этого. Частично эта ситуация связана с историей нашего образования в 90-ые, когда люди стали делать любое другое антисоветское образование, неважно, имело это смысл или не имело. У меня литературы в школе не было, потому что в советской школе литература была. Все было наоборот. Рамки ещё не существовали, что можно, а что нельзя, и в то время возникло много разных явлений, не всегда положительных. Вообще общество изменилось в 90-ые, и ситуация в 80-ых на это повлияла.
Шварц: Я хотела бы разделить, что такое насилие, а что – нет. Ученик и учитель — это уже заведомо две формализованные, иерархические роли. Принуждение предполагается. Пока это принуждение в рамках заранее описанных границ, правил, то это не насилие, а выполнение договорённостей. Как только мы переходим в межличностное общение, дополнительные активности, используя при этом поле иерархий, то тут мы сталкиваемся с насилием.
Монастырская: На самом деле есть две принципиально разные формы насилия. Одно — это принижение учеников, физическое насилие. Тут учитель имеет над учеником власть. А другая ситуация — когда учитель становится эмоционально значимой фигурой для ребёнка. И вот это как раз почва для такого абьюза, потому что менее однозначно выглядит со стороны. Как раз то самое соблазнение. Вот эта сторона насилия – замалчиваемая тема. Нам надо для начала найти слова, описывающие и называющие это. Почему мы понимаем, что это делать нельзя. С принуждением можно работать – профилактика, просвещение, а когда ребёнок уже во власти эмоциональной зависимости, то тут надо искать другие способы работы с этим.
Какое поведение мы считаем насильственным?
Профессионал, у которого есть больше власти над другим человеком, отвечает за то, чтобы не использовать эту власть в своих интересах до тех пор, пока он является профессионалом.(Н. Кедрова)
Заикина: Мы плавно перешли к следующему вопросу. Что такое нарушение границ в образовательном процессе? Когда заканчивается соблюдение правил игры? Где начинается абьюз? Это еще нормальные отношения или нет? Какое поведение мы считаем насильственным?
Петрановская: Как раз с бьющими в глаза примерами проблем нет. Если мы увидим, что учитель бьёт линейкой ребенка, то у нас не будет сомнений, что это абьюз. Гораздо более сложное – это неочевидные ситуации. Насчёт границ: дети – это люди со становящейся субъектностью. Они ещё не вполне субъекты, но и не вполне несубъекты. В общем, нарушить границы очень легко, они сами не знают, где они, не знают, как их отстаивать, не должны уметь. Например, у меня как у родителя был конфликт со школьными психологом, который играл с пятиклассниками в игру про подводную лодку, с которой мы должны спастись, так как она потонула. Но хватит кислорода не на всех, мы должны определить, кто останется, а кто, извините, помрёт, так как менее ценный член экипажа. И может быть сложно, но я могу себе представить, в какой ситуации эта игра может быть полезна агрессивным молодым менеджерам, прокачивая их скиллы, но мне было непонятно. Это были два часа напряжённой дискуссии со школьным психологом. То есть на самом деле такого очень много. Или например ситуации с буллингом. Когда ты говоришь учителю о факте, а он говорит: «Ну, дети, что такого, вот у них, да, дразнят, не нравится им мальчик, вот не хотят с ним играть». Я обычно говорю преподавателям так: «Представьте, вы приходите в школу, а с вами никто не здоровается, демонстративно переходит на другую сторону коридора. Вы приходите на педсовет, садитесь на стул. Все, кто сидел рядом, пересаживаются. Возможно, на этом стуле вы обнаружите грязную тряпку, приготовленную для вас. Потом вы приходите в класс проводить контрольную. Вы видите, что задание, которое вы написали на доске, стёрто, а на его месте – член. Потому что это шутка. Это дети, они же вас дразнят. То есть, коллеги. Или ищите вы классный журнал, а он в бачке унитаза мокрый лежит». И вот таким образом включается у них «боже, какой кошмар». А то, что дети так живут каждый день? Они же должны каждое утро вставать и уговаривать себя куда-то пойти, понимая, что вот это всё ждёт их. Это настолько слепое пятно для людей, для которых это работа. Разумеется, всегда в ситуациях насилия мы сталкиваемся с реакцией «А что такого?». Мне кажется, тут с границами не только у детей проблемы, но и очень глобально.
Кедрова: То есть задача — в таком диком пространстве организовать гуманный островок.
Никонова. Я думаю, проблема ещё в том, что когда мы пытаемся выделить границы насилия, то обнаруживаем, что насилие окружает нас везде. Мы в больнице — нас в 6 утра тормошат, уколы, лягте на бок. Мы сталкиваемся с этим в метро. Мы буквально окружены насилием. В семье с самого рождения советский стиль воспитания не подразумевает какой-либо самостоятельности ребёнка, пока не объявят. А воспитание ремнём – обычный метод. Поэтому когда мы будем думать о том, как разделить насилие от ненасилия, то надо учитывать, какая наша жизнь – каша. Мы отдаём ребёнка в школу, где люди такие же травмированные, с такими же проблемами с собственными границами, в собственной семье. И, в первую очередь, нам нужно заниматься и просто выращивать более гуманных людей, которые думали бы о себе и об окружающих. А пока мы не вырастим новое поколение, я боюсь, мы не сможем радикально решить этот вопрос. Мы можем только сделать категоризацию случаев насилия, против которых мы можем принимать какие-то меры.
Шварц: В продолжение идеи про гуманных людей. Из всех описаний, многих обсуждений, которые произошли вокруг 57 школы, по-моему, вырисовывается следующее: что когда мы просто смотрим на ситуацию, как только чуть-чуть сложно становится, уже непонятно, насилие это или нет. То есть когда это запихивание журнала или прямо насильственный акт — здесь всё понятно. Как только мы начинаем говорить о механизмах абъюза — здесь границы начинают расплываться. И как же быть? Один из вариантов, который приходит в голову, — это спросить участников. Если им плохо, то это, наверное, насилие, а если хорошо, то, может быть, и нет. Но такой вариант тоже не проходит, потому что плохо может оказаться через много лет, а в процессе было всё нормально. Как быть, чисто теоретизируя, и продолжая тему гуманистического человека, я вижу ответ такой: хороший учитель – это тот, который всё время заботится о границах. Он каждый раз задаёт себе этот вопрос: «Я преступил границы или нет? Можно ли здесь сделать такой шаг или нет?». И этот момент размежевания «да или нет» - это то, что всё время должно быть заботой учителя в школе.
Макаров: Я бы добавил, что это верно. Нужно всё время рефлексировать, а в сложных случаях — всё время идти к коллегам и спрашивать «вот такая ситуация, я правильно поступаю или нет?». Ну, например, я веду обществознание в старших классах, и у меня есть несколько заданий, которые могут показаться стрёмными, в том числе, некоторый вариант упомянутой подводной лодки. Я знаю, о чём идёт речь, и, конечно, в описанном варианте это совершенно ужасно — для пятого класса и где они сами должны распределяться. Если я занимаюсь этим, я иду к психологу и говорю: «Вот у меня есть такое задание, как вы думаете, это нормально?». Это важно. Учитель же очень часто боится потерять авторитет. Если он является авторитетом, то дальше у него возникает уверенность, что он знает, как правильно, и дальше уже можно не спрашивать. Родители не знают, как правильно, дети не знают, коллеги не знают, а я знаю, как правильно. И тогда уже возникает ситуация, когда он может утратить контроль над реальностью и границы могут смещаться.
Кедрова: Но если не знаешь, то какой же ты учитель? Я думаю, что здесь мы выходим в область профессиональной этики. И поскольку я ещё, кроме всего прочего, являюсь членом этической комиссии нашего профессионального сообщества, там тоже приходится разбираться с разными сложными отношениями, и, может быть, вам это пригодится. Мы опираемся на такую вещь, как профессионал, у которого есть больше власти над другим человеком. Он отвечает за то, чтобы не использовать эту власть в своих интересах до тех пор, пока он является профессионалом. То есть если это учитель, то его ответственность — держать вас в порядке и справляться с какой-то, допустим, дисциплиной, в которой он не должен… Если он использует преследование неудачного ученика для того, чтобы напугать остальной класс, то это будет точно насилие и нарушение профессиональных границ. То есть он использует преследование одного конкретного человека для того, чтобы решить свою профессиональную задачу. Если человек, которому очень скучно и грустно, а тут он нашёл хорошую детскую компанию, присоединился к ним, стал рассказывать анекдоты и пить пиво, то это тоже будет использование детей в своих интересах, а не… То есть взрослый человек должен сам улучшить себе настроение. И нам, по крайней мере, это помогает каким-то образом ориентироваться.
Литвин: Я бы хотела поговорить о такой конкретной вещи, как физический контакт между взрослым и ребёнком в продолжение того, о чём говорила Анна, потому что… Вот с одной стороны, во время интернет-дискуссий на разных площадках, в фейсбуке и так далее, было видно, что есть какое-то количество людей, которые считают, что сексуальный абьюз – это только половой акт. Наверное, все присутствующие здесь согласятся с тем, что это не так, что сексуальный абьюз – это шире, чем половой акт. Дальше перед нами становится следующая граница: в какой момент… Вот у нас есть объятие, один человек обнял другого. Взрослый – ребёнка. Или даже не обязательно. Как здесь различить, что это — абьюз или дружеское объятие, какое-то выражение поддержки. И дальше, когда мы начинаем об этом мучительно думать, — я это отмечала в разных обсуждениях, и для меня это тоже большой вопрос, — как понимать, что ты совершаешь в данный момент? Потому что для одного человека это может быть действительно дружеское объятие, а для другого это может быть что-то неприятное. И когда мы еще больше продолжаем об этом думать, то мы можем прийти к мысли, что лучше бы вообще не трогать никого. И это ведь тоже проблема. Я не психолог, и я очень давно хотела задать этот вопрос психологам: сейчас есть довольно много текстов – я на это смотрю с точки зрения очень наивного читателя, – о том, что детям сейчас очень не хватает объятий. И это взгляд с совершенно другой стороны — что мы мало прикасаемся друг к другу. И это тоже является проблемой. И как это всё совместить? Спрашивать ли каждый раз: «Приятно тебе или неприятно, что ты думаешь?». Или если спрашивать, то как? Мне кажется, что граница между насилием/ненасилием не одна, а их на этой шкале телесных отношений довольно много. Это больше вопрос, чем мое мнение.
Какие неформальные отношения может учитель строить с учеником, и может ли вообще?
Абьюз-то всегда держится на том, что все молчат.(Л. Петрановская)
Солдатова: Присоединяясь к этому вопросу, мы хотели бы спросить: какие неформальные отношения может учитель строить с учеником, и может ли вообще? Вне образовательного процесса или внутри него — насколько это приемлемо?
Петрановская: Есть такое крайнее решение вопроса, которое принято сейчас в некоторых европейских странах: от греха подальше запрещён любой физический контакт, нельзя оставаться с учеником наедине никому, кроме школьного психолога, и дверь должна быть открыта. Всякое такое. Попытка формализовать. Понятно, что у такого подхода есть свои плюсы. Наверное, он что-то гарантирует. Выбрана безопасность. Но при этом у тебя нет возможности обнять ребёнка, который плачет. Мало ли какие могут быть ситуации. Мне кажется, это ещё от культуры зависит. При этом сейчас есть культуры, в которых совершенно нормально, что все взрослые, включая учителей, гладят по голове, щиплют за щёки, обнимают, целуют при каждом контакте. Там, где вообще это нормально для любого взрослого человека, – это, скорее, вариант семейного общения. Конечно, когда это начинается в школе, то начинаются вопросы. Проблема, действительно, в том, с какой целью человек это делает: для того, чтобы поддержать и приласкать ребёнка, или для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. Заглянуть ему в голову весьма сложно, поэтому я не думаю, что мы когда-то сможем формально описать безопасность в таких измерениях, как «три сантиметра нельзя, а полтора можно, или наоборот». Я думаю, что такие вещи могут регулироваться только наличием инструментов рефлексии, и для того, чтобы дети знали, какими словами это называется, когда их обнимают, и им это неприятно. И что делать, если с тобой это произошло. Куда идти, кому сказать, какими словами это сказать. Потому что абьюз-то всегда держится на том, что все молчат. На том, что жертва замирает, молчит, и ей кажется, что этого не может быть, поэтому «я буду делать вид, что ничего не происходит, потому что если я скажу, что мне это не нравится, то мне скажут — тебе показалось, наверное, ты сам испорченный». Это обычный механизм, который «запирает» ситуацию. Поэтому мне не кажется, что решение вопроса может быть в том, чтобы мы чётко описали: за плечо можно, за локоть нельзя, или наоборот. Не в этом оно состоит. Оно состоит в том, чтобы дети понимали, чтобы с ними говорили с самого детства о том, как с ними нельзя. И я не думаю, что дело только в прикосновениях взрослого. Вообще есть куча вещей, которые с тобой нельзя. Например, когда учитель очень часто шутит в старших классах в таком духе: «Петрова, у тебя сегодня такая блузка, вон, уже Сидоров не может задачу решать, потому что от тебя глаз оторвать не может». Это считается хахаха, очень смешно, остроумно, разрядило атмосферу. Хотя это — то самое, о чём говорила коллега: самоудовлетворение каких-то импульсов вербальных об детей. Показать себя остроумным за счёт детей. Мне кажется, тут нет никакого выхода, кроме того, чтобы говорить с детьми о том, как с ними нельзя, и чтобы они имели какую-то идею в голове о том, что делать, если это всё-таки есть. Куда с этим пойти и что тогда будет. Какие-то процедуры рассмотрения таких случаев.
Никонова: Я хотела бы добавить, что я совершенно согласна, и что мы должны сделать ребёнка человеком, который сотрудничает в неприятной ситуации. Который помогает таким образом выявить новые типы насильственных ситуаций. И таким же образом внутри у себя в голове, если он знает, что именно ему неприятно, он может откалибровать, как его собственные действия отражаются на других людях. То есть получается, история в обе стороны: когда мы обучаем ребёнка тому, что неприятно ему, он начинает понимать, что такие же вещи могут быть неприятны другим людям, что уже ослабляет уровень насилия в его окружении.
Шварц: Я хотела бы немножко вернуть вопрос из чисто физического и тактильного контакта к вопросу неформальных отношений, он немного шире, и сказать немного о специфике, которая имеет… Я здесь вижу представителей нескольких математических школ. Математическое образование спецшкол специально устроено таким образом, чтобы снижать дистанцию между учеником и учителем. Это важная часть образовательного процесса, потому что дети вместе с учителями, с приходящими помощниками учителей, думают, и это важно. И очень бы хотелось, чтобы это не пало жертвой всех этих процессов, потому что это правда важно, и таким образом обучение действительно фасилицируется. Что, мне кажется, здесь могло бы быть разделительной линией на «можно» и «нельзя»? Это снижение дистанции, эти неформальные отношения должны быть во имя образовательного процесса: мы это делаем, чтобы ребёнка научить. И мне кажется, что важно, чтобы был разговор среди учителей, среди помощников учителей о прояснение этой самой мотивации: для чего мы организуем такого рода поездки, совместное времяпрепровождение? Чтобы что-то произошло. Не просто, чтобы нам было хорошо вместе, а чтобы каким-то образом образовательный процесс трансформировать.
Макаров: Я не соглашусь, потому что «во имя чего» — это очень опасная идея. Я даю ему щелбан, потому что он будет лучше соображать и решит эту задачу. Я бы вопрос поставил по-другому, это отдельный большой опрос: есть школы с разным уровнем формальности и неформальности. Есть некоторое представление о том, что неформальность помогает в образовательном процессе. Для того, чтобы на выходе были умные, разносторонне образованные школьники — с одной стороны. Так ли это? С другой стороны, если мы говорим, что некоторая неформальность возможна, то где и как будут поставлены границы? Например, что в походы школа ходит, а детей в туалете не бьют, если не решают задачи.
Петрановская: Есть такое крайнее решение вопроса, которое принято сейчас в некоторых европейских странах: от греха подальше запрещён любой физический контакт, нельзя оставаться с учеником наедине никому, кроме школьного психолога, и дверь должна быть открыта. Всякое такое. Попытка формализовать. Понятно, что у такого подхода есть свои плюсы. Наверное, он что-то гарантирует. Выбрана безопасность. Но при этом у тебя нет возможности обнять ребёнка, который плачет. Мало ли какие могут быть ситуации. Мне кажется, это ещё от культуры зависит. При этом сейчас есть культуры, в которых совершенно нормально, что все взрослые, включая учителей, гладят по голове, щиплют за щёки, обнимают, целуют при каждом контакте. Там, где вообще это нормально для любого взрослого человека, – это, скорее, вариант семейного общения. Конечно, когда это начинается в школе, то начинаются вопросы. Проблема, действительно, в том, с какой целью человек это делает: для того, чтобы поддержать и приласкать ребёнка, или для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. Заглянуть ему в голову весьма сложно, поэтому я не думаю, что мы когда-то сможем формально описать безопасность в таких измерениях, как «три сантиметра нельзя, а полтора можно, или наоборот». Я думаю, что такие вещи могут регулироваться только наличием инструментов рефлексии, и для того, чтобы дети знали, какими словами это называется, когда их обнимают, и им это неприятно. И что делать, если с тобой это произошло. Куда идти, кому сказать, какими словами это сказать. Потому что абьюз-то всегда держится на том, что все молчат. На том, что жертва замирает, молчит, и ей кажется, что этого не может быть, поэтому «я буду делать вид, что ничего не происходит, потому что если я скажу, что мне это не нравится, то мне скажут — тебе показалось, наверное, ты сам испорченный». Это обычный механизм, который «запирает» ситуацию. Поэтому мне не кажется, что решение вопроса может быть в том, чтобы мы чётко описали: за плечо можно, за локоть нельзя, или наоборот. Не в этом оно состоит. Оно состоит в том, чтобы дети понимали, чтобы с ними говорили с самого детства о том, как с ними нельзя. И я не думаю, что дело только в прикосновениях взрослого. Вообще есть куча вещей, которые с тобой нельзя. Например, когда учитель очень часто шутит в старших классах в таком духе: «Петрова, у тебя сегодня такая блузка, вон, уже Сидоров не может задачу решать, потому что от тебя глаз оторвать не может». Это считается хахаха, очень смешно, остроумно, разрядило атмосферу. Хотя это — то самое, о чём говорила коллега: самоудовлетворение каких-то импульсов вербальных об детей. Показать себя остроумным за счёт детей. Мне кажется, тут нет никакого выхода, кроме того, чтобы говорить с детьми о том, как с ними нельзя, и чтобы они имели какую-то идею в голове о том, что делать, если это всё-таки есть. Куда с этим пойти и что тогда будет. Какие-то процедуры рассмотрения таких случаев.
Никонова: Я хотела бы добавить, что я совершенно согласна, и что мы должны сделать ребёнка человеком, который сотрудничает в неприятной ситуации. Который помогает таким образом выявить новые типы насильственных ситуаций. И таким же образом внутри у себя в голове, если он знает, что именно ему неприятно, он может откалибровать, как его собственные действия отражаются на других людях. То есть получается, история в обе стороны: когда мы обучаем ребёнка тому, что неприятно ему, он начинает понимать, что такие же вещи могут быть неприятны другим людям, что уже ослабляет уровень насилия в его окружении.
Шварц: Я хотела бы немножко вернуть вопрос из чисто физического и тактильного контакта к вопросу неформальных отношений, он немного шире, и сказать немного о специфике, которая имеет… Я здесь вижу представителей нескольких математических школ. Математическое образование спецшкол специально устроено таким образом, чтобы снижать дистанцию между учеником и учителем. Это важная часть образовательного процесса, потому что дети вместе с учителями, с приходящими помощниками учителей, думают, и это важно. И очень бы хотелось, чтобы это не пало жертвой всех этих процессов, потому что это правда важно, и таким образом обучение действительно фасилицируется. Что, мне кажется, здесь могло бы быть разделительной линией на «можно» и «нельзя»? Это снижение дистанции, эти неформальные отношения должны быть во имя образовательного процесса: мы это делаем, чтобы ребёнка научить. И мне кажется, что важно, чтобы был разговор среди учителей, среди помощников учителей о прояснение этой самой мотивации: для чего мы организуем такого рода поездки, совместное времяпрепровождение? Чтобы что-то произошло. Не просто, чтобы нам было хорошо вместе, а чтобы каким-то образом образовательный процесс трансформировать.
Макаров: Я не соглашусь, потому что «во имя чего» — это очень опасная идея. Я даю ему щелбан, потому что он будет лучше соображать и решит эту задачу. Я бы вопрос поставил по-другому, это отдельный большой опрос: есть школы с разным уровнем формальности и неформальности. Есть некоторое представление о том, что неформальность помогает в образовательном процессе. Для того, чтобы на выходе были умные, разносторонне образованные школьники — с одной стороны. Так ли это? С другой стороны, если мы говорим, что некоторая неформальность возможна, то где и как будут поставлены границы? Например, что в походы школа ходит, а детей в туалете не бьют, если не решают задачи.
Благой целью вроде образовательного процесса можно прикрывать что угодно, и это может иметь побочные явления... Очень важно упомянуть, что вот это сообщество школьное, как учителей, так и учеников, должно быть каким-то образом демократически устроено..(Е. Литвин)
Кедрова: Звучит так, как будто детей ещё можно обучить чему-то, а взрослых уже совершенно невозможно. Я думаю, что, возможно, какие-то вещи буквально на уровне поведения. Потому что какие-то вещи – вот то, о чём вы говорили, Жень, — что нужно каждый раз спрашивать. По идее, да, потому что если один взрослый человек хочет обнять другого, то нормально сказать: «Я хочу тебя обнять, тебе как? Да? Или нет?» Мне кажется, что сейчас близость и какая-то дружба между детьми и взрослыми предполагается на детском уровне. Чтобы взрослый деградировал, перестал соображать и стал тусить с детьми на их уровне. Я думаю, что здесь может быть выход в том, чтобы стараться строить отношения с детьми, как с уважаемыми людьми. Так чтобы и сотрудничество, и уважение строилось на каком-то более взрослом уровне. И я думаю, что, в том числе, путём некоторого насилия – те, у кого есть такое право, — могут про это говорить, может быть, проводить какие-то тренинги. Я думаю, что это только облегчает жизнь учителей – немножко перестраивать их видение. Можно, я ещё немножко скажу про близкие отношения? Вот смотрите, когда речь идёт о маленьких детях до средней школы – это одна ситуация. Здесь взрослый – это просто хороший взрослый, который нас не обижает. А если мы уже говорим про подростков, то там есть такой феномен, как «значимый взрослый». То есть в любом случае, дети будут стараться выбрать себе такого учителя и как-то его «развести», «включить», завоевать, потому что им очень важно, чтобы был не родитель, но значимый взрослый, который их понимает и поддерживает. Понятная зона сотрудничества: когда мы что-то делаем вместе, то это создает безопасное пространство. А вот эта зона доверительных отношений и роли значимого взрослого требует очень большой подготовки и чувствительности. И очень трудно на это не повестись.
Монастырская: Мы сейчас больше про общий фон говорим, фон насилия. Мне бы хотелось ещё некоторые конкретные фигуры этого фона выделить. Помимо общей культуры насилия, которая у нас в обществе есть и не проработана, ещё есть совершенно очевидная вещь. Например, человек имеет некоторую непреодолимую тягу к детям, то куда ему ещё идти, кроме как в образовательные учреждения, в детские. И есть ситуация в целом размытого… наше общество еще не до конца пришло к тому, что… Вроде бы есть очевидные вещи: бить детей линейкой плохо. На самом деле, это ещё не так очевидно, потому что флешмоб про то, что не надо бить детей буквально сейчас проходил в сети, и получил весьма неоднозначный отклик. И вопрос о том, что есть люди с некоторой определенной целью, редко осознанной, которые приходят для того, чтобы взаимодействовать с детьми. Я подумала, что, может быть, стоит подумать в сторону того, как этих людей выявлять. И исследования какие-то есть, и это может быть задачей для школьного психолога, чтобы хотя бы таких людей отсеивать. Потому что вопросы о целях, с которыми такие действия производятся, — эти цели легко подменяются. Есть истории о том, как человек, который совершал какие-то действия в рамках абьюза и говорил при этом, что он «лечит души» детей, и исцеляет их своим теплом. То есть, вроде, цель благородная. Другое дело, что на уровне школьного взаимодействия это уже можно отсечь.
Литвин: То, с чего начали Анна и Алексей, это ведь было уже не только про неформальные отношения лично учителя и ученика, а про устройство школы, как пространства неформального общения. Мне очень дороги такие системы, и мне кажется, что неформальные отношения в школе и какие-то внеучебные поездки – это важная часть образовательного процесса. Хотела бы добавить сюда, что я не совсем согласна с тем, что мы должны думать о цели. Потому что благой целью вроде образовательного процесса можно прикрывать что угодно, и это может иметь некоторые побочные явления, одно другому может совершенно не противоречить. Мне кажется, что здесь очень важно упомянуть, что вот это сообщество школьное, как учителей, так и учеников, должно быть каким-то образом демократически устроено. Чтобы, с одной стороны, была возможность обратной связи от учеников. И она обязательно должна всерьёз выслушиваться, а не быть только формальной, «на бумажке», и т.п. С другой стороны, не только можно, но и нужно, все потенциальные конфликтные ситуации, которые возникают, обсуждать между учителями. И что как раз много проблем возникает не от отсутствия благой цели, а от отсутствия демократической организации.
Никонова: Я бы хотела вернуться к предыдущей теме о людях, которые так сильно любят детей, что их нужно отлавливать. Мне кажется, честно говоря, что истерия о том, чтобы искать педофилов, очень сильно преувеличивается. Потому что, на самом деле, огромное количество людей просто соблазнилось властью, и они не имеют никаких девиаций, а просто использовали ту власть, которая у них есть. Потому что, насколько мы знаем, люди, которых сейчас судят за преступления в отношении детей, они пользовались детьми, которые даже не соответствуют их сексуальной ориентации иногда. То есть это очень часто бывает не сексуальное действие, а именно опьянение властью. Я приведу пример, который я могу привести, потому что он произошёл со мной лично. Когда я была ребёнком, ещё даже до школы, ко мне приставал один молодой человек, который в то время был подростком. И я этого совершенно не помнила лет до тридцати, до тех пор, пока не стала ходить на психотерапию. У меня постепенно начали всплывать какие-то вещи в голове, сны. Потом прошло ещё несколько лет, и выяснилось, что его посадили. Прошло 30 лет, и в течение 30 лет он совершал разнообразные действия с очень маленькими детьми. Поймали его с маленьким мальчиком. В городской бане. И я хочу сказать, что свинья везде грязь найдёт. У этих людей нет больших проблем с тем, чтобы добраться до детей, они могут это делать десятилетиями. Но когда мы говорим о школе, о детских общеобразовательных или каких-то ещё заведениях, я думаю, для нас важны этические кодексы, важны тренинги для людей, которые работают (с детьми), кодексы, которые обсуждаются и помогают им сверять своё собственное поведение с поведением других. Я действительно согласна с тем, что это должно обсуждаться, чтобы у каждого преподавателя не было возможности далеко уйти за какие-то края, чтобы он мог вовремя вернуться, чтобы у него было, с чем сверяться. И тогда, я думаю, это будет гораздо более действенным, чем выискивать людей с какими-то наклонностями.
Шварц: Два слова о людях с наклонностями. Почему мне кажется, что это очень сильно недостаточно. Потому что я вижу – может быть, какие-то крамольные вещи скажу — это как заразная болезнь. «Если я видел, что мой учитель что-то себе позволил, то и я себе позволю». Или если какой-то ребёнок видел, что у кого-то когда-то, то тоже может быть. Это всё передаётся от класса к классу, от руководителя к ребёнку сплошь и рядом. Это не то что кто-то родился со специфическими наклонностями: в школе это дрейфует, и без выстраивания определённой школьной культуры это прогрессирует.
Монастырская: Мы сейчас больше про общий фон говорим, фон насилия. Мне бы хотелось ещё некоторые конкретные фигуры этого фона выделить. Помимо общей культуры насилия, которая у нас в обществе есть и не проработана, ещё есть совершенно очевидная вещь. Например, человек имеет некоторую непреодолимую тягу к детям, то куда ему ещё идти, кроме как в образовательные учреждения, в детские. И есть ситуация в целом размытого… наше общество еще не до конца пришло к тому, что… Вроде бы есть очевидные вещи: бить детей линейкой плохо. На самом деле, это ещё не так очевидно, потому что флешмоб про то, что не надо бить детей буквально сейчас проходил в сети, и получил весьма неоднозначный отклик. И вопрос о том, что есть люди с некоторой определенной целью, редко осознанной, которые приходят для того, чтобы взаимодействовать с детьми. Я подумала, что, может быть, стоит подумать в сторону того, как этих людей выявлять. И исследования какие-то есть, и это может быть задачей для школьного психолога, чтобы хотя бы таких людей отсеивать. Потому что вопросы о целях, с которыми такие действия производятся, — эти цели легко подменяются. Есть истории о том, как человек, который совершал какие-то действия в рамках абьюза и говорил при этом, что он «лечит души» детей, и исцеляет их своим теплом. То есть, вроде, цель благородная. Другое дело, что на уровне школьного взаимодействия это уже можно отсечь.
Литвин: То, с чего начали Анна и Алексей, это ведь было уже не только про неформальные отношения лично учителя и ученика, а про устройство школы, как пространства неформального общения. Мне очень дороги такие системы, и мне кажется, что неформальные отношения в школе и какие-то внеучебные поездки – это важная часть образовательного процесса. Хотела бы добавить сюда, что я не совсем согласна с тем, что мы должны думать о цели. Потому что благой целью вроде образовательного процесса можно прикрывать что угодно, и это может иметь некоторые побочные явления, одно другому может совершенно не противоречить. Мне кажется, что здесь очень важно упомянуть, что вот это сообщество школьное, как учителей, так и учеников, должно быть каким-то образом демократически устроено. Чтобы, с одной стороны, была возможность обратной связи от учеников. И она обязательно должна всерьёз выслушиваться, а не быть только формальной, «на бумажке», и т.п. С другой стороны, не только можно, но и нужно, все потенциальные конфликтные ситуации, которые возникают, обсуждать между учителями. И что как раз много проблем возникает не от отсутствия благой цели, а от отсутствия демократической организации.
Никонова: Я бы хотела вернуться к предыдущей теме о людях, которые так сильно любят детей, что их нужно отлавливать. Мне кажется, честно говоря, что истерия о том, чтобы искать педофилов, очень сильно преувеличивается. Потому что, на самом деле, огромное количество людей просто соблазнилось властью, и они не имеют никаких девиаций, а просто использовали ту власть, которая у них есть. Потому что, насколько мы знаем, люди, которых сейчас судят за преступления в отношении детей, они пользовались детьми, которые даже не соответствуют их сексуальной ориентации иногда. То есть это очень часто бывает не сексуальное действие, а именно опьянение властью. Я приведу пример, который я могу привести, потому что он произошёл со мной лично. Когда я была ребёнком, ещё даже до школы, ко мне приставал один молодой человек, который в то время был подростком. И я этого совершенно не помнила лет до тридцати, до тех пор, пока не стала ходить на психотерапию. У меня постепенно начали всплывать какие-то вещи в голове, сны. Потом прошло ещё несколько лет, и выяснилось, что его посадили. Прошло 30 лет, и в течение 30 лет он совершал разнообразные действия с очень маленькими детьми. Поймали его с маленьким мальчиком. В городской бане. И я хочу сказать, что свинья везде грязь найдёт. У этих людей нет больших проблем с тем, чтобы добраться до детей, они могут это делать десятилетиями. Но когда мы говорим о школе, о детских общеобразовательных или каких-то ещё заведениях, я думаю, для нас важны этические кодексы, важны тренинги для людей, которые работают (с детьми), кодексы, которые обсуждаются и помогают им сверять своё собственное поведение с поведением других. Я действительно согласна с тем, что это должно обсуждаться, чтобы у каждого преподавателя не было возможности далеко уйти за какие-то края, чтобы он мог вовремя вернуться, чтобы у него было, с чем сверяться. И тогда, я думаю, это будет гораздо более действенным, чем выискивать людей с какими-то наклонностями.
Шварц: Два слова о людях с наклонностями. Почему мне кажется, что это очень сильно недостаточно. Потому что я вижу – может быть, какие-то крамольные вещи скажу — это как заразная болезнь. «Если я видел, что мой учитель что-то себе позволил, то и я себе позволю». Или если какой-то ребёнок видел, что у кого-то когда-то, то тоже может быть. Это всё передаётся от класса к классу, от руководителя к ребёнку сплошь и рядом. Это не то что кто-то родился со специфическими наклонностями: в школе это дрейфует, и без выстраивания определённой школьной культуры это прогрессирует.
Вопросы
Школьникам, особенно старших классов, нужно говорить о границах, о законах, о педагогической этике, которая касается не только педагогов, но и их...(А. Макаров)
Вопрос: Меня зовут Дина Зарецкая, я преподаватель в разных классах, в начальной и средней школе. Меня очень интересует вопрос о том, как учителю сказать нет и что им не нравится, если все эти объятия или даже секс им прекрасно нравится, и они счастливы, потому что им преподаватель уделил столько внимания, сколько никто никогда не уделял. В таких ситуациях всегда начинаются наиболее активные разборки. Очень многие люди говорят, что «все были согласны, всё было замечательно, и мы не козлы, а замечательные преподаватели, и нас нельзя из школы удалять ни в коем случае».
Никонова: Я хочу сказать, что когда говорят о том, что «вот эта 14-летняя девица сама прыгнула на этого 40-летнего человека, и он не мог никак этому противостоять». Она – взрослый человек, зрелый, а он — нисколько, потому что «ну как он мог противостоять, увидев такую прекрасную девушку». В этом, конечно, манипуляции не меньше, чем когда мы говорим о том, что взрослый манипулирует ребёнком. Чем когда мы говорим, что находят детей из не очень благополучных семей и уделяют им очень много внимания, или выделяют из всего коллектива и показывают, насколько он или она кажется важным. Это обычная очень грязная манипуляция и манипуляция ребёнком, который ещё не взрослый и у него нет достаточного опыта. Поэтому когда говорят: «Ну ему же нравилось», — это неравноправные отношения. Поэтому это изначально не может рассматриваться, как ситуация, в которой все что-то понимают. Кроме того, не говоря уж о том, что во всех историях, которые муссировались в СМИ в последние полгода, фигурировали аборты. Аборты, сделанные несовершеннолетними. Это означает, что эти дети не контролировали ситуацию, они не имели возможности предохраняться, не факт, что у них была информация об этом. Это значит, что ими просто воспользовались, и, как бы им ни нравилось, им был причинён совершенно конкретный вред. И именно поэтому эти ситуации должны быть прекращены, здесь нет никакой серой зоны, она абсолютно очевидна, я так думаю.
Макаров: Во-первых, мне кажется, что школьникам, особенно старших классов, нужно говорить о границах, о законах, о педагогической этике, которая касается не только педагогов, но и их. Потому что, предположим, есть 17-летняя 11-классница, которая влюбилась в учителя. Если у них будет секс, то никакого нарушения закона тут нет. Но важно объяснить школьнику, что это означает, что учителя ты очень сильно подставляешь, потому что это грубое этическое нарушение, и он не должен работать в школе. Другое дело, что это ситуация выработанного этического кодекса, который всеми выполняется.
Кедрова: Ближе к реальности: вы говорите, что в этой ситуации ребёнку нужно говорить то-то и то-то. Ну а как вы себе представляете, кто окажется в курсе и кто будет это ребёнку говорить?
Хором из зала: Вся школа (смех).
Кедрова: Не всегда.
Заикина: В крайнем случае, тот преподаватель, с которым она…
Кедрова: Ну, это да. Но речь же идёт как раз о том, что если преподаватель сам не очень регулируется.
Вопрос, Григорий Бархин: По поводу того, кто будет говорить. Недавно я столкнулся с потрясающей ситуацией. Прихожу к школьному психологу с одним достаточно сложным вопросом: мне показалось, что у восьмилетней девочки есть какие-то проблемы. А психолог мне и говорит: «Я не могу работать с этими детьми: у самых проблемных детей родители подписали отказ от общения с психологом». Всё. Она не имеет права. Кто будет говорить детям? В советской школе был какой-то кодекс педагога. Сейчас, по-моему, и такого нет. Так кто должен говорить? Потому что те родители, которые с детьми общаются, они им расскажут. А основные проблемы возникают не у тех родителей, которые общаются с детьми, и, так или иначе за ними следят, а у тех детей, которые так называемые «проблемные дети». С проблемами в семье.
Петрановская: Мне кажется, это разные темы. Вопрос, который звучал, был о том, что делать, если инициатором отношений выступает ребёнок. Ученик, может быть, он не ребёнок в биологическом и в физиологическом смысле, но в социальном — несовершеннолетний, и, вроде, ему всё нравится, и он не воспринимает эту ситуацию, как ситуацию насилия. Ну, слушайте, у подростков в голове происходят очень сложные процессы. У них там кора созревает, с переменным успехом. И, действительно, они часто проходят состояния, когда они не очень понимают, что они делают, не очень предсказывают последствия своих поступков и могут творить весьма дикие вещи с точки зрения постороннего наблюдателя, а им кажется, что это очень круто. Особенно когда сексуальность в нынешней культуре довольно сильно связана с таким вещами, как самооценка, статус, место в неком рейтинге и т.д. Поэтому что мы можем здесь сказать? Только то, что мы понимаем, что ребёнок не может полностью оценивать ситуацию. Сколько мы за последнее время слышали кейсов, когда человек говорит, что в процессе ему не казалось всё ужасным, а через сколько-то лет его накрыло достаточно серьёзно. Это как раз и говорит о том, что подросток не может оценивать последствия. Ему кажется, что всё круто и прикольно, он делает чёрт знает что, а потом оказывается, что он был травмирован. Поэтому в каком-то смысле слова нас не очень-то должно интересовать — нравится или не нравится. Если мы считаем, что человек не может оценивать эти последствия, то обязанность взрослого – быть его внешней этой самой недозрелой корой, потому что внутренняя в этот момент у него не то чтобы хорошо фурычит. Поэтому взрослые, в том числе педагог, которого пытаются вовлечь в такие отношения, должен донести до ребёнка, что «нет, этого не будет в той ситуации, когда мы с тобой находимся в отношениях «учитель – ученик»». Это и есть профессиональная этика, в этом она и состоит.
Вопрос, Сергей Фокин. Был вопрос по поводу того, кто должен говорить с детьми и кто может им что-то говорить, а второй – связанный с абьюзом. Вы говорили о том, что многие проблемы, связанные с абьюзом, возникают из-за того, что дети не всегда понимают свои границы, не всегда могут сформулировать — хорошо или плохо происходящее, не всегда понимают, могут ли они обозначить своё неудовольствие или не могут. А в этой ситуации что и как советовать, что и как им объяснять, чтобы они знали, к кому обратиться? Кто должен это сказать, и что этот кто-то должен сказать? Потому что вот я, например, классный руководитель, и я не очень понимаю, как мне предупреждать своих детей. Я сказал: «Если что – подходите ко мне», - но понятно, что «если что» – никто ко мне не подойдёт.
Солдатова: Я думаю, что этот вопрос касается во многом следующих пунктов обсуждения, и мы сейчас к ним перейдём.
Заикина: Я думаю, что важный вопрос – о том, как учитель может защитить себя от ложных обвинений, потому что мы сейчас всё время говорим о том, как защитить ребёнка, а это тоже …
Никонова: Я бы ответила на этот вопрос. У меня ответ не очень длинный, потому что понятно, что в идеальной ситуации школа должна брать на себя эту задачу, потому что существует огромное количество детей, родители которых не в состоянии с этой задачей справиться. По следующему ряду причин: они очень много работают, они религиозные, им воспитание не позволяет, они не в состоянии принять сексуальность ребёнка, не в состоянии принять то, что у него вообще есть какая-то сексуальность, и т.д. Но в реальной ситуации, которая сейчас есть, к сожалению, мы можем рассчитывать только на родителей. Я читала исследование, которое проходило в течение 20 лет. Они собрали в разных странах результаты опроса примерно 25000 подростков и сравнивали их сексуальное поведение и то, насколько хорошо они общаются с родителями. И выяснили, что те, с кем родители в принципе говорили о сексе, у них поведение было более безопасное. И у них было меньше проблем в коммуникации с их партнёрами. При этом родителям даже не нужно было знать ничего специального о сексе. Всё, что им нужно было – это просто говорить, чтобы у детей появился какой-то вокабуляр, чтобы они понимали, что такой разговор в принципе возможен. То есть если ребёнок может прийти и задать любой вопрос, если он может получить объяснение и поговорить о том, что его волнует, даже если он не может это сформулировать, то шансы на то, что он сможет потом поговорить с теми, кто к чему-то его склоняет или притискивает его границы, значительно повышаются. Я повторюсь: для этого родителям не нужно иметь специальных знаний. Всё, что нужно – это не впадать в панику, не падать в обморок, не заливаться ужасом, не плакать, в общем, поговорить с ребёнком.
Шварц: Поскольку был вопрос ещё и о том, что говорить детям, мне кажется, что важно начинать разговор с какого-то более широкого круга. Ведь дело не только в сексуальных отношениях — это конечная стадия — а вообще про ценность отношений, когда они равноправны, когда они уважительны, когда это не отношения подчинённого и руководителя, а когда это честные и равные отношения. Если мы заранее готовим ребёнка к тому, чтобы иметь такого рода отношения, тогда и меньше шансов, что он попадёт в отношения с учителем.
Никонова: Я хочу сказать, что когда говорят о том, что «вот эта 14-летняя девица сама прыгнула на этого 40-летнего человека, и он не мог никак этому противостоять». Она – взрослый человек, зрелый, а он — нисколько, потому что «ну как он мог противостоять, увидев такую прекрасную девушку». В этом, конечно, манипуляции не меньше, чем когда мы говорим о том, что взрослый манипулирует ребёнком. Чем когда мы говорим, что находят детей из не очень благополучных семей и уделяют им очень много внимания, или выделяют из всего коллектива и показывают, насколько он или она кажется важным. Это обычная очень грязная манипуляция и манипуляция ребёнком, который ещё не взрослый и у него нет достаточного опыта. Поэтому когда говорят: «Ну ему же нравилось», — это неравноправные отношения. Поэтому это изначально не может рассматриваться, как ситуация, в которой все что-то понимают. Кроме того, не говоря уж о том, что во всех историях, которые муссировались в СМИ в последние полгода, фигурировали аборты. Аборты, сделанные несовершеннолетними. Это означает, что эти дети не контролировали ситуацию, они не имели возможности предохраняться, не факт, что у них была информация об этом. Это значит, что ими просто воспользовались, и, как бы им ни нравилось, им был причинён совершенно конкретный вред. И именно поэтому эти ситуации должны быть прекращены, здесь нет никакой серой зоны, она абсолютно очевидна, я так думаю.
Макаров: Во-первых, мне кажется, что школьникам, особенно старших классов, нужно говорить о границах, о законах, о педагогической этике, которая касается не только педагогов, но и их. Потому что, предположим, есть 17-летняя 11-классница, которая влюбилась в учителя. Если у них будет секс, то никакого нарушения закона тут нет. Но важно объяснить школьнику, что это означает, что учителя ты очень сильно подставляешь, потому что это грубое этическое нарушение, и он не должен работать в школе. Другое дело, что это ситуация выработанного этического кодекса, который всеми выполняется.
Кедрова: Ближе к реальности: вы говорите, что в этой ситуации ребёнку нужно говорить то-то и то-то. Ну а как вы себе представляете, кто окажется в курсе и кто будет это ребёнку говорить?
Хором из зала: Вся школа (смех).
Кедрова: Не всегда.
Заикина: В крайнем случае, тот преподаватель, с которым она…
Кедрова: Ну, это да. Но речь же идёт как раз о том, что если преподаватель сам не очень регулируется.
Вопрос, Григорий Бархин: По поводу того, кто будет говорить. Недавно я столкнулся с потрясающей ситуацией. Прихожу к школьному психологу с одним достаточно сложным вопросом: мне показалось, что у восьмилетней девочки есть какие-то проблемы. А психолог мне и говорит: «Я не могу работать с этими детьми: у самых проблемных детей родители подписали отказ от общения с психологом». Всё. Она не имеет права. Кто будет говорить детям? В советской школе был какой-то кодекс педагога. Сейчас, по-моему, и такого нет. Так кто должен говорить? Потому что те родители, которые с детьми общаются, они им расскажут. А основные проблемы возникают не у тех родителей, которые общаются с детьми, и, так или иначе за ними следят, а у тех детей, которые так называемые «проблемные дети». С проблемами в семье.
Петрановская: Мне кажется, это разные темы. Вопрос, который звучал, был о том, что делать, если инициатором отношений выступает ребёнок. Ученик, может быть, он не ребёнок в биологическом и в физиологическом смысле, но в социальном — несовершеннолетний, и, вроде, ему всё нравится, и он не воспринимает эту ситуацию, как ситуацию насилия. Ну, слушайте, у подростков в голове происходят очень сложные процессы. У них там кора созревает, с переменным успехом. И, действительно, они часто проходят состояния, когда они не очень понимают, что они делают, не очень предсказывают последствия своих поступков и могут творить весьма дикие вещи с точки зрения постороннего наблюдателя, а им кажется, что это очень круто. Особенно когда сексуальность в нынешней культуре довольно сильно связана с таким вещами, как самооценка, статус, место в неком рейтинге и т.д. Поэтому что мы можем здесь сказать? Только то, что мы понимаем, что ребёнок не может полностью оценивать ситуацию. Сколько мы за последнее время слышали кейсов, когда человек говорит, что в процессе ему не казалось всё ужасным, а через сколько-то лет его накрыло достаточно серьёзно. Это как раз и говорит о том, что подросток не может оценивать последствия. Ему кажется, что всё круто и прикольно, он делает чёрт знает что, а потом оказывается, что он был травмирован. Поэтому в каком-то смысле слова нас не очень-то должно интересовать — нравится или не нравится. Если мы считаем, что человек не может оценивать эти последствия, то обязанность взрослого – быть его внешней этой самой недозрелой корой, потому что внутренняя в этот момент у него не то чтобы хорошо фурычит. Поэтому взрослые, в том числе педагог, которого пытаются вовлечь в такие отношения, должен донести до ребёнка, что «нет, этого не будет в той ситуации, когда мы с тобой находимся в отношениях «учитель – ученик»». Это и есть профессиональная этика, в этом она и состоит.
Вопрос, Сергей Фокин. Был вопрос по поводу того, кто должен говорить с детьми и кто может им что-то говорить, а второй – связанный с абьюзом. Вы говорили о том, что многие проблемы, связанные с абьюзом, возникают из-за того, что дети не всегда понимают свои границы, не всегда могут сформулировать — хорошо или плохо происходящее, не всегда понимают, могут ли они обозначить своё неудовольствие или не могут. А в этой ситуации что и как советовать, что и как им объяснять, чтобы они знали, к кому обратиться? Кто должен это сказать, и что этот кто-то должен сказать? Потому что вот я, например, классный руководитель, и я не очень понимаю, как мне предупреждать своих детей. Я сказал: «Если что – подходите ко мне», - но понятно, что «если что» – никто ко мне не подойдёт.
Солдатова: Я думаю, что этот вопрос касается во многом следующих пунктов обсуждения, и мы сейчас к ним перейдём.
Заикина: Я думаю, что важный вопрос – о том, как учитель может защитить себя от ложных обвинений, потому что мы сейчас всё время говорим о том, как защитить ребёнка, а это тоже …
Никонова: Я бы ответила на этот вопрос. У меня ответ не очень длинный, потому что понятно, что в идеальной ситуации школа должна брать на себя эту задачу, потому что существует огромное количество детей, родители которых не в состоянии с этой задачей справиться. По следующему ряду причин: они очень много работают, они религиозные, им воспитание не позволяет, они не в состоянии принять сексуальность ребёнка, не в состоянии принять то, что у него вообще есть какая-то сексуальность, и т.д. Но в реальной ситуации, которая сейчас есть, к сожалению, мы можем рассчитывать только на родителей. Я читала исследование, которое проходило в течение 20 лет. Они собрали в разных странах результаты опроса примерно 25000 подростков и сравнивали их сексуальное поведение и то, насколько хорошо они общаются с родителями. И выяснили, что те, с кем родители в принципе говорили о сексе, у них поведение было более безопасное. И у них было меньше проблем в коммуникации с их партнёрами. При этом родителям даже не нужно было знать ничего специального о сексе. Всё, что им нужно было – это просто говорить, чтобы у детей появился какой-то вокабуляр, чтобы они понимали, что такой разговор в принципе возможен. То есть если ребёнок может прийти и задать любой вопрос, если он может получить объяснение и поговорить о том, что его волнует, даже если он не может это сформулировать, то шансы на то, что он сможет потом поговорить с теми, кто к чему-то его склоняет или притискивает его границы, значительно повышаются. Я повторюсь: для этого родителям не нужно иметь специальных знаний. Всё, что нужно – это не впадать в панику, не падать в обморок, не заливаться ужасом, не плакать, в общем, поговорить с ребёнком.
Шварц: Поскольку был вопрос ещё и о том, что говорить детям, мне кажется, что важно начинать разговор с какого-то более широкого круга. Ведь дело не только в сексуальных отношениях — это конечная стадия — а вообще про ценность отношений, когда они равноправны, когда они уважительны, когда это не отношения подчинённого и руководителя, а когда это честные и равные отношения. Если мы заранее готовим ребёнка к тому, чтобы иметь такого рода отношения, тогда и меньше шансов, что он попадёт в отношения с учителем.
Функции школьного психолога
В школе "Муми Тролль" функционирует психологическая служба, которая следит за взаимоотношениями в школе.
Солдатова: Тогда давайте сейчас поговорим о том, какие функции выполняет школьный психолог. Например, к кому он лоялен. У нас присутствует Наталья, которая создавала психологическую службу в школе «Муми Тролль». Может быть, вы можете рассказать об этом и о том, чем вы руководствовались?
Кедрова: Школьный психолог лоялен к справедливости. У нас школьная служба возникла давно – может быть, в 1993 или 1994 г.. И возникла, потому что была большая необходимость какой-то взаимной адаптации. Потому что учителя были большими энтузиастами, но не очень большими педагогами. Многие дети, которые пришли, были совершенно замечательные, но с разными индивидуальными сложностями. Поэтому нужна была какая-то обширная психологическая служба. Наверное, нам очень повезло, потому что у нас были всегда хорошие отношения с администрацией. Я думаю, что для психологической службы это очень важно — чтобы было взаимопонимание, альянс с руководителями. Тогда то, что мы наблюдаем, то, что мы видим, может быть использовано, чтобы были какие-то изменения. Если говорить про тему насилия, то важно было наладить какую-то обратную связь. И мы разработали систему анонимных анкет, которые дети заполняли время от времени. И учителя тоже. Они были очень косвенные, потому что дети отвечали на вопросы вроде «на таком-то уроке мне весело, грустно, бодро, скучно, приятно, неприятно». Куча каких-то полярных определений. И когда мы собирали это всё вместе, мы могли получить картинку, что на каком-то уроке всем детям страшно, например. Это значит, что нам надо ловить этого учителя, внимательно смотреть на него и с ним разговаривать. У нас ушло несколько лет на то, чтобы приручить учителей. Вы так говорите, будто это так легко: прийти и заставить какого-то учителя по-другому что-то видеть. У нас ушло несколько лет на то, чтобы учителя перестали нас бояться, чтобы они не думали, что мы какие-то надсмотрщики, инквизиторы, что мы на стороне их хорошей жизни. И то же самое с детьми и родителями. Это была такая непростая часть.
Солдатова: И долго, да?
Кедрова: Года три ушло на то, чтобы в нас перестали видеть какой-то контроль, подвох или угрозу разоблачения. Потому что на самом деле школа, кончено, даже самая замечательная — это сложный коллектив с конкуренцией, с ревностью, с уязвимостью. Учителя в этом плане очень не защищены от родителей, от каких-то ситуаций с детьми тоже. Я не знаю, про что ещё интересно рассказать. Бывали какие-то деликатные вещи, о которых нужно было говорить и с учителями, и с родителями, и с детьми. Когда, например, мальчик влюблялся в учительницу и начинал как-то с ней флиртовать. Она тоже просто ему отвечала симпатией. Не соблазняла его, но невольно поддерживала в нём эту влюблённость. И все боялись с ней про это говорить, потому что никто не хотел её обидеть, потому что она просто реагировала искренне, безо всяких злых умыслов. И важно было найти какую-то деликатную форму, чтобы сделать это осознанно. То есть наша задача была – регуляция контакта, чтобы это было возможно быть осознанным. Иногда попадались люди, с которыми не удавалось это сделать, но обычно они через некоторое время уходили (смех в зале). Ну, потому что когда говоришь, что «не надо с похмелья приходить на урок (смех), дети жалуются, что плохо пахнет», — ну, не надо. Через некоторое время как-то человек не остаётся. Или администрация говорит: «Уходите». Такая задача, как человек с колотушкой, который ходит и говорит: «Так неправильно, так не надо делать».
Солдатова: Ещё такой вопрос: по чьей воле эту службу делали? Кто заказчик?
Кедрова: Я же говорю, что школа замечательная, редкая, подарочная. Администрация, учредители. Они сами нас позвали и подружились с нами.
Солдатова: Вот так нужно делать всем школам.
Кедрова: У нас задачи были по ходу дела: оценка детей — подходит/не подходит, оценка новых учителей. А потом мы уже развернулись.
Литвин: Я хотела спросить, сколько времени ушло на то, чтобы заработала система анкет, которые должны были заполнять дети? Потому что это ведь тоже, наверное, было не очень просто — завоевать доверие, чтобы это действительно начало работать?
Кедрова: Ну, и с нашей стороны мы не сразу подобрали какой-то аккуратный формат, чтобы это было и анонимно, и чтобы можно было объяснить, про что там. Потому что и родители иногда нервничали. Ну, тоже, наверное, года три. Мы продолжаем это делать. Здесь есть моя коллега, актуальный психолог школы. Но это хорошая система получилась, в конце концов, потому что раньше и учителя очень боялись, что вы про нас что-то такое узнаете. Нам с каждым нужно было очень подолгу деликатно разговаривать и разворачивать, и объяснять, что это значит. Что если дети боятся, то, может быть, громкость нужно уменьшить, что-то нужно сделать, чтобы это изменить. Что это не то что ваш дефект, а это плохо работает, нужно это отладить.
Литвин: Анонимность с указанием класса?
Кедрова: Да, мы в класс приходим, и они заполняют. Там много вопросов, они долго всё это заполняют.
Кедрова: Школьный психолог лоялен к справедливости. У нас школьная служба возникла давно – может быть, в 1993 или 1994 г.. И возникла, потому что была большая необходимость какой-то взаимной адаптации. Потому что учителя были большими энтузиастами, но не очень большими педагогами. Многие дети, которые пришли, были совершенно замечательные, но с разными индивидуальными сложностями. Поэтому нужна была какая-то обширная психологическая служба. Наверное, нам очень повезло, потому что у нас были всегда хорошие отношения с администрацией. Я думаю, что для психологической службы это очень важно — чтобы было взаимопонимание, альянс с руководителями. Тогда то, что мы наблюдаем, то, что мы видим, может быть использовано, чтобы были какие-то изменения. Если говорить про тему насилия, то важно было наладить какую-то обратную связь. И мы разработали систему анонимных анкет, которые дети заполняли время от времени. И учителя тоже. Они были очень косвенные, потому что дети отвечали на вопросы вроде «на таком-то уроке мне весело, грустно, бодро, скучно, приятно, неприятно». Куча каких-то полярных определений. И когда мы собирали это всё вместе, мы могли получить картинку, что на каком-то уроке всем детям страшно, например. Это значит, что нам надо ловить этого учителя, внимательно смотреть на него и с ним разговаривать. У нас ушло несколько лет на то, чтобы приручить учителей. Вы так говорите, будто это так легко: прийти и заставить какого-то учителя по-другому что-то видеть. У нас ушло несколько лет на то, чтобы учителя перестали нас бояться, чтобы они не думали, что мы какие-то надсмотрщики, инквизиторы, что мы на стороне их хорошей жизни. И то же самое с детьми и родителями. Это была такая непростая часть.
Солдатова: И долго, да?
Кедрова: Года три ушло на то, чтобы в нас перестали видеть какой-то контроль, подвох или угрозу разоблачения. Потому что на самом деле школа, кончено, даже самая замечательная — это сложный коллектив с конкуренцией, с ревностью, с уязвимостью. Учителя в этом плане очень не защищены от родителей, от каких-то ситуаций с детьми тоже. Я не знаю, про что ещё интересно рассказать. Бывали какие-то деликатные вещи, о которых нужно было говорить и с учителями, и с родителями, и с детьми. Когда, например, мальчик влюблялся в учительницу и начинал как-то с ней флиртовать. Она тоже просто ему отвечала симпатией. Не соблазняла его, но невольно поддерживала в нём эту влюблённость. И все боялись с ней про это говорить, потому что никто не хотел её обидеть, потому что она просто реагировала искренне, безо всяких злых умыслов. И важно было найти какую-то деликатную форму, чтобы сделать это осознанно. То есть наша задача была – регуляция контакта, чтобы это было возможно быть осознанным. Иногда попадались люди, с которыми не удавалось это сделать, но обычно они через некоторое время уходили (смех в зале). Ну, потому что когда говоришь, что «не надо с похмелья приходить на урок (смех), дети жалуются, что плохо пахнет», — ну, не надо. Через некоторое время как-то человек не остаётся. Или администрация говорит: «Уходите». Такая задача, как человек с колотушкой, который ходит и говорит: «Так неправильно, так не надо делать».
Солдатова: Ещё такой вопрос: по чьей воле эту службу делали? Кто заказчик?
Кедрова: Я же говорю, что школа замечательная, редкая, подарочная. Администрация, учредители. Они сами нас позвали и подружились с нами.
Солдатова: Вот так нужно делать всем школам.
Кедрова: У нас задачи были по ходу дела: оценка детей — подходит/не подходит, оценка новых учителей. А потом мы уже развернулись.
Литвин: Я хотела спросить, сколько времени ушло на то, чтобы заработала система анкет, которые должны были заполнять дети? Потому что это ведь тоже, наверное, было не очень просто — завоевать доверие, чтобы это действительно начало работать?
Кедрова: Ну, и с нашей стороны мы не сразу подобрали какой-то аккуратный формат, чтобы это было и анонимно, и чтобы можно было объяснить, про что там. Потому что и родители иногда нервничали. Ну, тоже, наверное, года три. Мы продолжаем это делать. Здесь есть моя коллега, актуальный психолог школы. Но это хорошая система получилась, в конце концов, потому что раньше и учителя очень боялись, что вы про нас что-то такое узнаете. Нам с каждым нужно было очень подолгу деликатно разговаривать и разворачивать, и объяснять, что это значит. Что если дети боятся, то, может быть, громкость нужно уменьшить, что-то нужно сделать, чтобы это изменить. Что это не то что ваш дефект, а это плохо работает, нужно это отладить.
Литвин: Анонимность с указанием класса?
Кедрова: Да, мы в класс приходим, и они заполняют. Там много вопросов, они долго всё это заполняют.
И с детьми надо про это говорить, потому что они ведут себя сексуально, вызывающе и привлекают к себе, в том числе и сексуальный интерес... Это тема, про которую надо регулярно говорить, напоминать и удерживать возможность критического отношения и к собственным реакциям, и к тому, что с детьми происходит. (Н. Кедрова)
Солдатова: Ирина, может быть, вы прокомментируете, как сейчас это всё работает?
Ирина (психолог школы Муми Тролль): Я могу прокомментировать про анкету. Она очень хорошо разработана. Это, во-первых. А, во-вторых, если вы приходите к подросткам и объясняете, что это будет анонимно, вы получите только средние результаты, то мне кажется, это сразу заработает, не надо ждать трёх лет. Это то, что я хотела сказать. А это всё правда продолжает работать и даёт хорошие результаты. И я думаю, что обратная связь учителям… Здесь ещё какая реальность: не всегда психолог может это донести, но всегда можно найти того, кто может учителю это донести. Та же администрация.
Никонова: Вопрос: скажите, пожалуйста, удавалось ли перенести эту систему в другие школы?
Кедрова: Я знаю, что коллеги брали. В еврейской школе это использовали, например. То есть те коллеги, которые про эту систему знали, они её брали. В небольших школах это посильно, а так — это всё надо в компьютер переносить. Мы-то вручную всё считали, по старинке. Я ещё хочу сказать про сексуальность. Взрослые, правда, если речь идёт о школе, часто ошибаются про компетентность. Даже те, которые знают подростков. И воспринимают, что когда подростки что-то делают, они делают это осознанно и ответственно. И это действительно тема, к которой надо регулярно возвращаться и напоминать, что, действительно, это то, что кажется. И с детьми надо про это говорить, потому что они ведут себя сексуально, вызывающе и привлекают к себе, в том числе и сексуальный интерес. И у взрослых глаз так устроен, что постепенно критика снижается, а автоматизм увеличивается. Это тема, про которую надо регулярно говорить, напоминать и удерживать возможность критического отношения и к собственным реакциям, и к тому, что с детьми происходит. Это как мытьё ушей.
Шварц: Я хотела еще немножко сказать про психолога в школе. Сейчас в рамках волонтерской деятельности в попытках понять, что нужно 57 школе, чтобы предотвратить и заняться профилактикой, я попробовала немножко проанализировать, что вообще в государстве происходит с психологическими службами, и на какого рода запросы они отвечают. В параллель с тем, как, может быть, вы знаете, сейчас запущен процесс обновления психологической службы в школе после разных неприятных событий. Поскольку так получилось, поскольку я работаю на факультете психологии, то я видела, как это внедряют. Надо понимать, что у нас есть федеральный образовательный стандарт, и он очень специфичен, если его сравнивать с образовательными стандартами других стран. Он очень психологизированный. Хорошо это или плохо – у этого есть разные стороны. Но факт в том, что мы получаем, что ребёнку предписано – а стандарт – это именно предписание, причём формально измеряемое, проверяемое предписание – предписано быть личностно развитым, иметь адекватную самооценку, смысл образования. Туда же входят различные универсальные учебные действия, которые подразумевают эмоциональные, коммуникативные компетенции, когнитивные, — всё это в стандарте. Значит, это надо мерить. Кто будет это делать? А директор должен отчитаться, что у него всё по стандарту. Зачем ему нужен психолог после этого? Для того, чтобы всё это померить и рассказать, какая у нас ситуация и план действий. Это первый запрос на психологическую работу в школе. Дальше, помимо общего образовательного стандарта, у нас есть образовательный стандарт для детей с особыми возможностями здоровья. Это огромная штука, там 8, если я не ошибаюсь, разных профилей трудностей у детей, на каждый из этих профилей 4 уровня образовательных программ. У нас теперь инклюзивное образование. Коррекционные школы закрываются, поэтому нужно всех этих детей сопроводить, выбрать им каким-то образом образовательную программу, встроить их в образовательный процесс и т.д. Кто это будет делать? Опять психолог. Что это за подход? И вот тут, что я вижу на факультете психологии, — это клинический подход. У нас есть здоровье, от него отклонения, есть нейропсихологические трудности, трудное детство, специфические семьи и т.д. И психолог всё время вынужден. Предполагается, что он выявляет проблемного ребёнка, с ним работает, дырку залатал, и дальше — всё хорошо. И клинические психологи действительно очень нужны, потому что детей с ОВЗ много, и они везде есть, этого никто не отрицает. Но та проблематика, которую мы сегодня обсуждаем, касается вообще не отдельных людей, она касается взаимоотношений и тех проблем во взаимоотношениях, которые существуют. Похоже, что в системе, которая сейчас существует, в роль школьного психолога это не входит никаким образом. Более того, если говорить о международном опыте – мне удалось поговорить с разными людьми – есть такая профессия, как социальный работник, или в школе это социальный педагог. Это человек, который должен быть ориентирован на выстраивание определенной атмосферы, сотрудничества, доверительных отношений, адекватных форм коммуникации и т.п., чего у нас просто нет как факта. Может быть, отсюда мы будем куда-то двигаться.
Макаров: Немножко про школьных психологов. Чтобы вы понимали, как устроена жизнь в московских школах. Сейчас школа – это очень большое учреждение, в котором может быть несколько тысяч человек. И дети очень разные. Идёт процесс слияния школ, поэтому это могут быть дети с особыми образовательными потребностями, обычные дети. Дети, у которых особые потребности, – это учиться, учиться и ещё раз учиться. При этом всех, кто непосредственно учит детей, стараются оптимизировать, то есть уволить. А если не уволят, то это один психолог на несколько тысяч детей. И даже если все родители подписали соответствующие бумаги о том, что психологи могут работать с детьми — что не всегда бывает — то это не панацея. Школьные психологи не могут быть единственной панацеей. Очень многие школьники не пойдут к школьному психологу просто потому, что он школьный психолог. Потому что все будут тыкать пальцами, что у него проблемы, потому что он зашёл в эту дверь, на которой написано «Школьный психолог». И, на мой взгляд, хорошая ситуация — если школа так устроена, что в ней есть разные люди, и ребёнок может найти релевантного взрослого. Кто-то приходит к психологу, кто-то – к классному руководителю, кто-то – к воспитателю, к социальному педагогу, к учителю и сообщает о своей проблеме.
Ирина (психолог школы Муми Тролль): Я могу прокомментировать про анкету. Она очень хорошо разработана. Это, во-первых. А, во-вторых, если вы приходите к подросткам и объясняете, что это будет анонимно, вы получите только средние результаты, то мне кажется, это сразу заработает, не надо ждать трёх лет. Это то, что я хотела сказать. А это всё правда продолжает работать и даёт хорошие результаты. И я думаю, что обратная связь учителям… Здесь ещё какая реальность: не всегда психолог может это донести, но всегда можно найти того, кто может учителю это донести. Та же администрация.
Никонова: Вопрос: скажите, пожалуйста, удавалось ли перенести эту систему в другие школы?
Кедрова: Я знаю, что коллеги брали. В еврейской школе это использовали, например. То есть те коллеги, которые про эту систему знали, они её брали. В небольших школах это посильно, а так — это всё надо в компьютер переносить. Мы-то вручную всё считали, по старинке. Я ещё хочу сказать про сексуальность. Взрослые, правда, если речь идёт о школе, часто ошибаются про компетентность. Даже те, которые знают подростков. И воспринимают, что когда подростки что-то делают, они делают это осознанно и ответственно. И это действительно тема, к которой надо регулярно возвращаться и напоминать, что, действительно, это то, что кажется. И с детьми надо про это говорить, потому что они ведут себя сексуально, вызывающе и привлекают к себе, в том числе и сексуальный интерес. И у взрослых глаз так устроен, что постепенно критика снижается, а автоматизм увеличивается. Это тема, про которую надо регулярно говорить, напоминать и удерживать возможность критического отношения и к собственным реакциям, и к тому, что с детьми происходит. Это как мытьё ушей.
Шварц: Я хотела еще немножко сказать про психолога в школе. Сейчас в рамках волонтерской деятельности в попытках понять, что нужно 57 школе, чтобы предотвратить и заняться профилактикой, я попробовала немножко проанализировать, что вообще в государстве происходит с психологическими службами, и на какого рода запросы они отвечают. В параллель с тем, как, может быть, вы знаете, сейчас запущен процесс обновления психологической службы в школе после разных неприятных событий. Поскольку так получилось, поскольку я работаю на факультете психологии, то я видела, как это внедряют. Надо понимать, что у нас есть федеральный образовательный стандарт, и он очень специфичен, если его сравнивать с образовательными стандартами других стран. Он очень психологизированный. Хорошо это или плохо – у этого есть разные стороны. Но факт в том, что мы получаем, что ребёнку предписано – а стандарт – это именно предписание, причём формально измеряемое, проверяемое предписание – предписано быть личностно развитым, иметь адекватную самооценку, смысл образования. Туда же входят различные универсальные учебные действия, которые подразумевают эмоциональные, коммуникативные компетенции, когнитивные, — всё это в стандарте. Значит, это надо мерить. Кто будет это делать? А директор должен отчитаться, что у него всё по стандарту. Зачем ему нужен психолог после этого? Для того, чтобы всё это померить и рассказать, какая у нас ситуация и план действий. Это первый запрос на психологическую работу в школе. Дальше, помимо общего образовательного стандарта, у нас есть образовательный стандарт для детей с особыми возможностями здоровья. Это огромная штука, там 8, если я не ошибаюсь, разных профилей трудностей у детей, на каждый из этих профилей 4 уровня образовательных программ. У нас теперь инклюзивное образование. Коррекционные школы закрываются, поэтому нужно всех этих детей сопроводить, выбрать им каким-то образом образовательную программу, встроить их в образовательный процесс и т.д. Кто это будет делать? Опять психолог. Что это за подход? И вот тут, что я вижу на факультете психологии, — это клинический подход. У нас есть здоровье, от него отклонения, есть нейропсихологические трудности, трудное детство, специфические семьи и т.д. И психолог всё время вынужден. Предполагается, что он выявляет проблемного ребёнка, с ним работает, дырку залатал, и дальше — всё хорошо. И клинические психологи действительно очень нужны, потому что детей с ОВЗ много, и они везде есть, этого никто не отрицает. Но та проблематика, которую мы сегодня обсуждаем, касается вообще не отдельных людей, она касается взаимоотношений и тех проблем во взаимоотношениях, которые существуют. Похоже, что в системе, которая сейчас существует, в роль школьного психолога это не входит никаким образом. Более того, если говорить о международном опыте – мне удалось поговорить с разными людьми – есть такая профессия, как социальный работник, или в школе это социальный педагог. Это человек, который должен быть ориентирован на выстраивание определенной атмосферы, сотрудничества, доверительных отношений, адекватных форм коммуникации и т.п., чего у нас просто нет как факта. Может быть, отсюда мы будем куда-то двигаться.
Макаров: Немножко про школьных психологов. Чтобы вы понимали, как устроена жизнь в московских школах. Сейчас школа – это очень большое учреждение, в котором может быть несколько тысяч человек. И дети очень разные. Идёт процесс слияния школ, поэтому это могут быть дети с особыми образовательными потребностями, обычные дети. Дети, у которых особые потребности, – это учиться, учиться и ещё раз учиться. При этом всех, кто непосредственно учит детей, стараются оптимизировать, то есть уволить. А если не уволят, то это один психолог на несколько тысяч детей. И даже если все родители подписали соответствующие бумаги о том, что психологи могут работать с детьми — что не всегда бывает — то это не панацея. Школьные психологи не могут быть единственной панацеей. Очень многие школьники не пойдут к школьному психологу просто потому, что он школьный психолог. Потому что все будут тыкать пальцами, что у него проблемы, потому что он зашёл в эту дверь, на которой написано «Школьный психолог». И, на мой взгляд, хорошая ситуация — если школа так устроена, что в ней есть разные люди, и ребёнок может найти релевантного взрослого. Кто-то приходит к психологу, кто-то – к классному руководителю, кто-то – к воспитателю, к социальному педагогу, к учителю и сообщает о своей проблеме.
В каких школах более вероятен или менее вероятен харассмент? Можно ли снизить вероятность харассмента, работая с идеологией школы?
Первое, что открывает дорогу большому количеству насилия харассмента и сексуального насилия — это атмосфера молчания и это потворствование на всех уровнях. (Т. Никонова)
Заикина: Сейчас мы поговорили о подарочных школах и о не очень подарочных. Давайте поговорим о том, какой должна и какой не должна быть идеология школы для профилактики харассмента. То есть в каких школах более вероятен или менее вероятен харассмент, как можно снизить вероятность харассмента, работая с идеологией школы. И можно ли.
Никонова: У меня есть несколько замечаний. Я думаю, многие видели, когда обсуждались события последнего полугода, что очень часто говорилось о том, что «эти ваши элитные школы – это рассадники всякого ужаса». Так вот, я хочу сказать, что я училась в школе, которая была в списке худших вторая с конца. Хуже просто практически невозможно. У нас всё было тоже очень плохо (смех). И из собственных наблюдений – я не психолог, не профессионал, — я хочу сказать, что первое, что открывает дорогу большому количеству насилия харассмента и сексуального насилия — это атмосфера молчания и это потворствование на всех уровнях. То есть если старший школьник видит, что с младшим школьником происходит что-то не то, и он не останавливается… То есть как мы знаем, даже если на улице происходит какой-то конфликт, для того, чтобы этот конфликт тут же прекратился, часто достаточно просто остановиться рядом. То есть агрессору достаточно понять, что его действия видимы, и тут же всё меняется. То есть если взрослый или школьник делает что-то по отношению к остальным школьникам, а остальные взрослые ничего не делают, делают вид, что ничего не происходит, то другие школьники понимают, что они абсолютно беззащитны. Кроме того, что мы говорим об открытом абьюзе, открытом насилии, когда дети понимают, что они беззащитны, существуют же более мягкие, скрытые формы, когда у детей просто смещаются рамки нормы. И если мы говорим о последствиях, то выясняется, что пострадали не только эти несколько человек, или несколько десятков человек на протяжении стольких-то лет, а и огромное количество других школьников, которые учились с пониманием того, что всё, что происходит вокруг, — это абсолютно нормально, с ними могут поступать точно так же, они будут поступать с другими детьми точно также. И вот именно это молчание, отсутствие проговаривания и отсутствие каких-то рамок и норм, оно влияет очень сильно на ситуацию насилия в школах.
Монастырская: Я тоже не про какие-то выводы, а про свои наблюдения. Я училась в разных школах: плохих, хороших, массовых, особенных, маленьких. И могу сказать, что если в ситуации насилия, когда учитель орёт, унижает и т.д. – более типичной и заметной в обычных общеобразовательных школах - дети чаще молчат, потому что они не чувствуют возможности получить поддержку и признание своих чувств. Получить признание того, что «мне это не нравится». И это уже отдельная тема, на которую тоже хотелось бы поговорить. Помимо понятия границ, насилия, есть чувства, которые возникают в связи с этими границами. И этого мы пока практически не касались. То есть если мы ставим границу, мы не обязательно должны игнорировать чувства, которые возникают у ребёнка по поводу этих границ. Если же говорить о той же «Лиге школ», то там атмосфера была семейная. И многие истории не про то, что твои чувства не будут признаны, а потому что страшно потерять вот эту семейную атмосферу. Это другая история, она о том, почему она именно здесь у ребенка, эта семейная атмосфера, почему он не получает её в семье. И школа у нас была с седьмого класса, то есть дети до этого уже успели поучиться в разных местах, и ты боишься вернуться вот в это, где опять будут кричать и т.п. То есть причины молчать бывают разные, и с ними по-разному нужно обращаться. И там и там много про работу с семьёй, и я надеюсь, что мы ещё уделим внимание роли родителей, потому что один вопрос – почему нет доверительной атмосферы в семье, почему ребёнок идёт за ней в школу, а другой вопрос (ну, они связаны) – почему не получает признания того, что ему не нравится, как с ним обращаются, и попытки защиты. Опять же возвращаясь к тому, что является нормой или не нормой для нашего общества, когда ко мне приходят семьи с детьми с вопросами о том, почему ребёнок не хочет учиться, почему у ребёнка школьные страхи и т.д. И когда я спрашиваю родителей: «А как вам учитель?» - «Да всё нормально». И когда начинаешь спрашивать, то выясняется, что «нормально» - это «не бьёт». То есть родители не показывают ребёнку, как защищать свои границы. И здесь возникает вопрос о том, что является более утопичным: попытка изменить глобально общество в целом и его отношение к насилию или попытка локально изменить ситуацию в школе, оставаясь в ситуации глобального насилия.
Никонова: Я бы ещё хотела добавить, что очень часто происходит, что родители становятся на сторону школы, а не ребёнка, вне зависимости от того, насколько эта школа права. У ребёнка проблемы со сверстниками, с самой школой, с конкретными преподавателями, но родители становятся на сторону школы и требуют выполнения всех обязательств, которые на ребёнка возложили, а он об этом, собственно, не просил. И в таком случае, конечно, ребёнок любого возраста может попасть в совершенно любую ситуацию, потому что дом не становится его защитой, а родители не становятся его защитниками и не могут участвовать в этом конфликте. Например, у меня есть множество знакомых матерей, которые такие матери-тигрицы. И они придут в школу и всё там разнесут. Камня на камне не оставят, если с их дитяткой что-то не так. Они не всегда бывают правы, но ребёнок понимает, что он под защитой. И я смотрю на их детей, и они выглядят гораздо более спокойными и расслабленными, и я, честно говоря, думаю, насколько бы ужасной ни была обстановка вокруг них, они чувствуют эту защиту – это о том, что взрослые должны создавать этот защитный кокон, который позволяет им удержаться.
Петрановская: Я аналогию с семьёй хочу провести. В социальной работе часто возникает такая ситуация, когда гипотетически в семье есть сексуальный абьюз. Это опыт западных социальных служб, когда забирают ребёнка, и не всегда понятно: было, не было, померещилось, ребёнок сочинил и т.д. Всегда есть такие ситуации. И поскольку у них опыта гораздо больше по работе с такими ситуациями, то уже много десятилетий над этим бьётся социальная психологическая мысль на тему того, как же всё-таки понять — есть или нет. Они уже перебрали всё, что могли, в том числе способы выявления педофилов и т.д., но в итоге пришли к тому, о чём мы говорим: что совершенно необязательно быть для этого каким-то таким органическим педофилом – общество действительно развращает ситуация безнаказанности и власти над маленьким существом. В конце концов к чему пришли после долгих попыток, проб и ошибок? К тому, что единственным сколько-нибудь понятным критерием того, насколько ребёнка стоит отдавать обратно в семью, является отношение других членов семьи к этому. То есть если, допустим, возникает подозрение в сторону отчима, то важно не рассматривать отчима. Будет он или не будет — такой подход не принёс никаких результатов. А важно послушать, например, что об этом говорит мама. Если мама говорит: «Не слушайте эту девку, ничего этого не было, он прекрасный человек и т.д.», — то это плохой прогноз. Если она говорит: «Ой, не может быть такого, у нас прекрасная семья, мы вообще об этом не говорим», — это плохой прогноз. А если мама говорит: «Да, я понимаю риски, я понимаю проблемы, я буду иметь в виду, помогите мне, на что обращать внимание, что делать, если вдруг мне что-то показалось», — то есть если это открытая позиция, готовность обсуждать эту ситуацию, то риски явно меньше. Вот, собственно говоря, если говорить про школы, то здесь то же самое. Они могут быть элитными или не элитными, но гораздо большей проблемой является табуированность темы и стремление защищать честь мундира в случае чего. Характерный пример: меня приглашали на диалог в Питере по той же теме, там разговаривают по одной теме в течение часа, и ведущие до последнего не могли найти собеседника, кто был бы готов это обсуждать. Они хотели обязательно кого-то из школы, из педагогов. Люди десятками отказывались разговаривать на эту тему. Потому что очень скользкая тема, не знают, что сказать. Не знаю мотивов, но это факт, что они еле-еле нашли собеседника из числа педагогов. То есть в этой ситуации, когда это настолько табуировано, что люди это не обсуждают, не признается проблема. И мой собеседник был очень забавный, но весь час он забалтывал эту проблему, отвлекаясь, рассказывая байки, анекдоты и т.д.
Никонова: У меня есть несколько замечаний. Я думаю, многие видели, когда обсуждались события последнего полугода, что очень часто говорилось о том, что «эти ваши элитные школы – это рассадники всякого ужаса». Так вот, я хочу сказать, что я училась в школе, которая была в списке худших вторая с конца. Хуже просто практически невозможно. У нас всё было тоже очень плохо (смех). И из собственных наблюдений – я не психолог, не профессионал, — я хочу сказать, что первое, что открывает дорогу большому количеству насилия харассмента и сексуального насилия — это атмосфера молчания и это потворствование на всех уровнях. То есть если старший школьник видит, что с младшим школьником происходит что-то не то, и он не останавливается… То есть как мы знаем, даже если на улице происходит какой-то конфликт, для того, чтобы этот конфликт тут же прекратился, часто достаточно просто остановиться рядом. То есть агрессору достаточно понять, что его действия видимы, и тут же всё меняется. То есть если взрослый или школьник делает что-то по отношению к остальным школьникам, а остальные взрослые ничего не делают, делают вид, что ничего не происходит, то другие школьники понимают, что они абсолютно беззащитны. Кроме того, что мы говорим об открытом абьюзе, открытом насилии, когда дети понимают, что они беззащитны, существуют же более мягкие, скрытые формы, когда у детей просто смещаются рамки нормы. И если мы говорим о последствиях, то выясняется, что пострадали не только эти несколько человек, или несколько десятков человек на протяжении стольких-то лет, а и огромное количество других школьников, которые учились с пониманием того, что всё, что происходит вокруг, — это абсолютно нормально, с ними могут поступать точно так же, они будут поступать с другими детьми точно также. И вот именно это молчание, отсутствие проговаривания и отсутствие каких-то рамок и норм, оно влияет очень сильно на ситуацию насилия в школах.
Монастырская: Я тоже не про какие-то выводы, а про свои наблюдения. Я училась в разных школах: плохих, хороших, массовых, особенных, маленьких. И могу сказать, что если в ситуации насилия, когда учитель орёт, унижает и т.д. – более типичной и заметной в обычных общеобразовательных школах - дети чаще молчат, потому что они не чувствуют возможности получить поддержку и признание своих чувств. Получить признание того, что «мне это не нравится». И это уже отдельная тема, на которую тоже хотелось бы поговорить. Помимо понятия границ, насилия, есть чувства, которые возникают в связи с этими границами. И этого мы пока практически не касались. То есть если мы ставим границу, мы не обязательно должны игнорировать чувства, которые возникают у ребёнка по поводу этих границ. Если же говорить о той же «Лиге школ», то там атмосфера была семейная. И многие истории не про то, что твои чувства не будут признаны, а потому что страшно потерять вот эту семейную атмосферу. Это другая история, она о том, почему она именно здесь у ребенка, эта семейная атмосфера, почему он не получает её в семье. И школа у нас была с седьмого класса, то есть дети до этого уже успели поучиться в разных местах, и ты боишься вернуться вот в это, где опять будут кричать и т.п. То есть причины молчать бывают разные, и с ними по-разному нужно обращаться. И там и там много про работу с семьёй, и я надеюсь, что мы ещё уделим внимание роли родителей, потому что один вопрос – почему нет доверительной атмосферы в семье, почему ребёнок идёт за ней в школу, а другой вопрос (ну, они связаны) – почему не получает признания того, что ему не нравится, как с ним обращаются, и попытки защиты. Опять же возвращаясь к тому, что является нормой или не нормой для нашего общества, когда ко мне приходят семьи с детьми с вопросами о том, почему ребёнок не хочет учиться, почему у ребёнка школьные страхи и т.д. И когда я спрашиваю родителей: «А как вам учитель?» - «Да всё нормально». И когда начинаешь спрашивать, то выясняется, что «нормально» - это «не бьёт». То есть родители не показывают ребёнку, как защищать свои границы. И здесь возникает вопрос о том, что является более утопичным: попытка изменить глобально общество в целом и его отношение к насилию или попытка локально изменить ситуацию в школе, оставаясь в ситуации глобального насилия.
Никонова: Я бы ещё хотела добавить, что очень часто происходит, что родители становятся на сторону школы, а не ребёнка, вне зависимости от того, насколько эта школа права. У ребёнка проблемы со сверстниками, с самой школой, с конкретными преподавателями, но родители становятся на сторону школы и требуют выполнения всех обязательств, которые на ребёнка возложили, а он об этом, собственно, не просил. И в таком случае, конечно, ребёнок любого возраста может попасть в совершенно любую ситуацию, потому что дом не становится его защитой, а родители не становятся его защитниками и не могут участвовать в этом конфликте. Например, у меня есть множество знакомых матерей, которые такие матери-тигрицы. И они придут в школу и всё там разнесут. Камня на камне не оставят, если с их дитяткой что-то не так. Они не всегда бывают правы, но ребёнок понимает, что он под защитой. И я смотрю на их детей, и они выглядят гораздо более спокойными и расслабленными, и я, честно говоря, думаю, насколько бы ужасной ни была обстановка вокруг них, они чувствуют эту защиту – это о том, что взрослые должны создавать этот защитный кокон, который позволяет им удержаться.
Петрановская: Я аналогию с семьёй хочу провести. В социальной работе часто возникает такая ситуация, когда гипотетически в семье есть сексуальный абьюз. Это опыт западных социальных служб, когда забирают ребёнка, и не всегда понятно: было, не было, померещилось, ребёнок сочинил и т.д. Всегда есть такие ситуации. И поскольку у них опыта гораздо больше по работе с такими ситуациями, то уже много десятилетий над этим бьётся социальная психологическая мысль на тему того, как же всё-таки понять — есть или нет. Они уже перебрали всё, что могли, в том числе способы выявления педофилов и т.д., но в итоге пришли к тому, о чём мы говорим: что совершенно необязательно быть для этого каким-то таким органическим педофилом – общество действительно развращает ситуация безнаказанности и власти над маленьким существом. В конце концов к чему пришли после долгих попыток, проб и ошибок? К тому, что единственным сколько-нибудь понятным критерием того, насколько ребёнка стоит отдавать обратно в семью, является отношение других членов семьи к этому. То есть если, допустим, возникает подозрение в сторону отчима, то важно не рассматривать отчима. Будет он или не будет — такой подход не принёс никаких результатов. А важно послушать, например, что об этом говорит мама. Если мама говорит: «Не слушайте эту девку, ничего этого не было, он прекрасный человек и т.д.», — то это плохой прогноз. Если она говорит: «Ой, не может быть такого, у нас прекрасная семья, мы вообще об этом не говорим», — это плохой прогноз. А если мама говорит: «Да, я понимаю риски, я понимаю проблемы, я буду иметь в виду, помогите мне, на что обращать внимание, что делать, если вдруг мне что-то показалось», — то есть если это открытая позиция, готовность обсуждать эту ситуацию, то риски явно меньше. Вот, собственно говоря, если говорить про школы, то здесь то же самое. Они могут быть элитными или не элитными, но гораздо большей проблемой является табуированность темы и стремление защищать честь мундира в случае чего. Характерный пример: меня приглашали на диалог в Питере по той же теме, там разговаривают по одной теме в течение часа, и ведущие до последнего не могли найти собеседника, кто был бы готов это обсуждать. Они хотели обязательно кого-то из школы, из педагогов. Люди десятками отказывались разговаривать на эту тему. Потому что очень скользкая тема, не знают, что сказать. Не знаю мотивов, но это факт, что они еле-еле нашли собеседника из числа педагогов. То есть в этой ситуации, когда это настолько табуировано, что люди это не обсуждают, не признается проблема. И мой собеседник был очень забавный, но весь час он забалтывал эту проблему, отвлекаясь, рассказывая байки, анекдоты и т.д.
Критерием благополучия и низкого риска является то, что, например, люди могут собраться и обсудить эту ситуацию не из соображений «как нам скорее всё замять, чтобы про нас никто не узнал», а из соображений «что нам делать: как защитить детей, кто прав, кто не прав», (Л. Петрановская)
Солдатова: А здесь у нас есть педагоги школьные? (поднимаются руки) Ура!
Петрановская: То есть критерием благополучия и низкого риска является то, что, например, люди могут собраться и обсудить эту ситуацию не из соображений «как нам скорее всё замять, чтобы про нас никто не узнал», а из соображений «что нам делать: как защитить детей, кто прав, кто не прав», — мне кажется, это и есть признак здоровой системы. И, наоборот, если все силы бросаются на защиту мундира, то это признак нездоровой системы.
Литвин: Прозвучала фраза «защитить честь мундира», и мне сразу же захотелось защитить честь мундира этих самых элитных школ, потому что — и об этом уже довольно много говорилось в последние месяцы — элитные школы в России – это не школы для богатых детей. Хотя и это тоже. Но мы сейчас в меньшей степени об этом говорим, а в большей степени — о тех школах, где работают люди, которые очень любят свою работу. Куда поступают дети не на основании своего материального положения, а на основании своих знаний и умственных способностей. Где учителя и дети пробивают стену лбом для того, чтобы это дальше работало. И очень важно понимать: и сколько сил было приложено во многих случаях на протяжении десятилетий для того, чтобы такие школы продолжали работать, и насколько в тяжелой ситуации они оказались после последних образовательных реформ о слияниях школ. И, конечно, когда люди отказываются об этом говорить или стараются замять эту тему, – это в большой степени результат того, что они находятся в очень уязвимом положении. И всё это находится в настолько шатком состоянии, что любой не то что публичный скандал, а любой щелчок может привести к тому, что это всё развалится, а это результат работы большого количества людей на протяжении большого количества лет. И это часто люди, которые работают не за деньги, а на энтузиазме. И мне кажется, это тоже важно понимать, в чём специфика этих «элитных» школ или тех, которые близки к ним.
Кедрова: К сожалению, поэтому часто получается компромисс, что мы стараемся не заметить какую-то неприятность, но зато сохранится такое хорошее дело. Это плохой ход.
Литвин: Конечно, я с этим не спорю. Поэтому мы здесь и разговариваем.
Петрановская: Куча кейсов, которые мы разбирали, можно было бы решить, если бы не было этой идеи заметания под ковёр. Можно было бы решить на ранних стадиях с сохранением школ и т.д. Заканчивается это всё потом печально.
Макаров: О верности мундиру. Вы не поверите, но существует «модельный кодекс поведения педагога». Что-то вроде этического кодекса, который потом принимают школы. Я его почитал. Там нет слова «харассмент», там нет слова «абьюз», там нет никаких слов, производных от слова «секс», там нет слова «насилие». Зато там есть прекрасный пункт о том, если вы обсуждаете какие-то штуки, что-то нехорошее, за пределами школы, в частности, в социальных сетях, то создаётся специальная комиссия. Туда вызывается любой участник образовательного процесса. Это может быть школьник, учитель, родитель, — и дальше ему там выносят выговор. Потому что не надо обсуждать за пределами школы, в том числе в социальных сетях, что у вас есть какие-то проблемы в школе.
Заикина: То есть, правда, что если я, взрослый человек, меня могут вызвать в школу и сделать мне выговор? Родителей вызывают в школу и делают дисциплинарное взыскание, я правильно понимаю?
Макаров: Секунду, я могу просто процитировать соответствующий пункт. «При возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь ОУ за пределами школы, в том числе и в социальных сетях Интернет. Если оное будет выявлено членами Комиссии по этике», - это вот вопрос о том, чем вы должны заниматься, – «или же другими сотрудниками ОУ, а также учениками, то Комиссия имеет право вызвать на Особый педсовет «нарушителя» (педагога, ученика, сотрудника, родителя), уличенного в этом противоправном действии и привлечь его к определенной дисциплинарной ответственности (в скобочках – «выговор»)».
Заикина: Я правильно понимаю, что я, родитель, я приду, и меня будут ругать?
Макаров: Да, разумеется. Поймите, что эти документы устроены достаточно по-дурацки. (Из зала: Первое правило этического кодекса – не обсуждать ни с кем этический кодекс. Смех.) Уровень людей, которые разрабатывают эти документы примерно такой: например, если в школе есть управляющий совет, то в памятке про управляющие советы сказано, что на его заседания нельзя входить с оружием. Ну, наверное, нужно было специальное предписание, потому что иначе людям непонятно.
Заикина: А как называется этот документ?
Макаров: В феврале-марте 2014 г. было письмо Министерства образования с предложением, в котором был модельный кодекс поведения педагога. На основе этого школы должны разрабатывать этические кодексы. Кто их принимает – совершенно непонятно. На практике это может быть и зам.директора по учебно-воспитательной работе, и педагогический совет, и общее собрание работников. То есть все работники школы. Это может быть и управляющий совет – то есть это не прописано, кто угодно. И дальше может быть создана комиссия по этике. Её создает управляющий совет. И это главный этический документ. Он совершенно необязательный, его может не быть в школах, а те, которые есть… Ну, часто лучше бы, чтобы его не было, потому что там написаны совершенно «прекрасные» вещи. Надо ещё понимать, что у нас есть закон об образовании, где в 48 статье сказано, что, среди прочего, педагог обязан следовать профессионально-этическим нормам. Если он им не следует, то это может учитываться при очередной аттестации, и, в принципе, можно даже уволить человека за нарушение этических норм. Но это прямо не прописано. Примерно так. То есть вообще с законами у нас некоторая проблема.
Солдатова: У нас есть Анна Шварц, которая имеет отношение к этическому кодексу, уставу — не знаю, как это называется, — который создается в школе 57.
Шварц: Всё это происходило в течение последнего полугода после того, как эта история не то чтобы случилась, но стала широко известна. Мы сидели группой заинтересованных лиц и брейнштормили: что бы такого можно сделать в школе, чтобы стало получше. Набрейнштормили мы в двух направлениях. Одно направление – следующие модели профессиональных этических комитетов или выстраивания корпоративной культуры. Это некоторая комиссия, в которую можно обратиться в связи с нарушением чего-то. А раз нарушение чего-то — значит, должен быть и кодекс. И это некоторая формальная структура, которая может проводить не то чтобы внутреннее расследование, но некоторый объективирующий анализ ситуации. Грубо говоря, что было, а чего не было. И, советуясь с администрацией, принимать дисциплинарные меры. Это вариант номер 1, и это то направление, о котором сейчас говорил Алексей. Какая может быть альтернатива или, может быть, не альтернатива, а дополнение – это создание службы уполномоченного. Здесь уже говорилось о защите ребёнка и защите его прав, а также о защите прав педагога. О том, что в школе всё время должен быть кто-то, кто болеет за эти самые права. И кто не пытается объективировать и выяснить, что было, а чего не было, а пытается со всеми поговорить и узнать, кому плохо и кому хорошо, какие ценности в школе соблюдаются, а какие нет. Эта служба уполномоченного, с нашей точки зрения, могла бы быть механизмом, который бы противостоял вот этой самой защите мундира. Потому что защита мундира – это значит, что нет институционализации, что каждый бьется за свою шкуру, и что это становится ведущей мотивацией. А это некоторая внутришкольная служа, которую мы видим состоящей, в первую очередь, из социальных работников. Наверное, они имеют психологическое образование, плюс к тому прошли специальные курсы, связанные с социальной работой, с подходом к правосудию, и их акцент – на работе с сообществом, на проведении тренингов, на создании каких-то развивающих пространств, где дети могли бы взаимодействовать друг с другом, а учителя – обсуждать какие-то задачи и успехи. Т.е., это некоторая дополнительная структура, которая, в идеале, сотрудничает с администрацией, с психологами, но, тем не менее, постоянно имеет свою собственную повестку, и самостоятельно отстаивает права всех участников образовательного процесса. Такого рода структуры кое-где создаются в России. Это может называться институтом омбудсменов, или службой уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, отчасти это может называться служба медиации. Конечно, их не очень много, но мы продолжаем надеяться, что что-то подобное может появиться и в 57 школе.
Заикина: А не очень много – это значит, что они есть?
Шварц: В каких-то школах есть документы, которые регламентируют эти действия. Конечно, на данном этапе нет другой структуры, которой они могут быть подотчётны, кроме директора, просто потому что нет такой межшкольной системы. Хотя вообще-то, в идеале, если опираться на опыт других стран, то и психологи, на мой взгляд, и социальные работники должны быть объединены в единую систему с собственной повесткой, отличную от академических достижений.
Петрановская: Да, это узкое место. Поскольку во множестве кейсов именно руководители учебных заведений или близкие к ним люди являются теми, от кого исходит угроза, то не очень понятно, как и при каких условиях в подчинении этим людям что-то можно сделать.
Шварц: В настоящий момент мы хотим, чтобы это было подчинение Управляющему совету. То есть какой-никакой, а общественный контроль и возможность выхода на уровень школы.
Петрановская: То есть критерием благополучия и низкого риска является то, что, например, люди могут собраться и обсудить эту ситуацию не из соображений «как нам скорее всё замять, чтобы про нас никто не узнал», а из соображений «что нам делать: как защитить детей, кто прав, кто не прав», — мне кажется, это и есть признак здоровой системы. И, наоборот, если все силы бросаются на защиту мундира, то это признак нездоровой системы.
Литвин: Прозвучала фраза «защитить честь мундира», и мне сразу же захотелось защитить честь мундира этих самых элитных школ, потому что — и об этом уже довольно много говорилось в последние месяцы — элитные школы в России – это не школы для богатых детей. Хотя и это тоже. Но мы сейчас в меньшей степени об этом говорим, а в большей степени — о тех школах, где работают люди, которые очень любят свою работу. Куда поступают дети не на основании своего материального положения, а на основании своих знаний и умственных способностей. Где учителя и дети пробивают стену лбом для того, чтобы это дальше работало. И очень важно понимать: и сколько сил было приложено во многих случаях на протяжении десятилетий для того, чтобы такие школы продолжали работать, и насколько в тяжелой ситуации они оказались после последних образовательных реформ о слияниях школ. И, конечно, когда люди отказываются об этом говорить или стараются замять эту тему, – это в большой степени результат того, что они находятся в очень уязвимом положении. И всё это находится в настолько шатком состоянии, что любой не то что публичный скандал, а любой щелчок может привести к тому, что это всё развалится, а это результат работы большого количества людей на протяжении большого количества лет. И это часто люди, которые работают не за деньги, а на энтузиазме. И мне кажется, это тоже важно понимать, в чём специфика этих «элитных» школ или тех, которые близки к ним.
Кедрова: К сожалению, поэтому часто получается компромисс, что мы стараемся не заметить какую-то неприятность, но зато сохранится такое хорошее дело. Это плохой ход.
Литвин: Конечно, я с этим не спорю. Поэтому мы здесь и разговариваем.
Петрановская: Куча кейсов, которые мы разбирали, можно было бы решить, если бы не было этой идеи заметания под ковёр. Можно было бы решить на ранних стадиях с сохранением школ и т.д. Заканчивается это всё потом печально.
Макаров: О верности мундиру. Вы не поверите, но существует «модельный кодекс поведения педагога». Что-то вроде этического кодекса, который потом принимают школы. Я его почитал. Там нет слова «харассмент», там нет слова «абьюз», там нет никаких слов, производных от слова «секс», там нет слова «насилие». Зато там есть прекрасный пункт о том, если вы обсуждаете какие-то штуки, что-то нехорошее, за пределами школы, в частности, в социальных сетях, то создаётся специальная комиссия. Туда вызывается любой участник образовательного процесса. Это может быть школьник, учитель, родитель, — и дальше ему там выносят выговор. Потому что не надо обсуждать за пределами школы, в том числе в социальных сетях, что у вас есть какие-то проблемы в школе.
Заикина: То есть, правда, что если я, взрослый человек, меня могут вызвать в школу и сделать мне выговор? Родителей вызывают в школу и делают дисциплинарное взыскание, я правильно понимаю?
Макаров: Секунду, я могу просто процитировать соответствующий пункт. «При возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь ОУ за пределами школы, в том числе и в социальных сетях Интернет. Если оное будет выявлено членами Комиссии по этике», - это вот вопрос о том, чем вы должны заниматься, – «или же другими сотрудниками ОУ, а также учениками, то Комиссия имеет право вызвать на Особый педсовет «нарушителя» (педагога, ученика, сотрудника, родителя), уличенного в этом противоправном действии и привлечь его к определенной дисциплинарной ответственности (в скобочках – «выговор»)».
Заикина: Я правильно понимаю, что я, родитель, я приду, и меня будут ругать?
Макаров: Да, разумеется. Поймите, что эти документы устроены достаточно по-дурацки. (Из зала: Первое правило этического кодекса – не обсуждать ни с кем этический кодекс. Смех.) Уровень людей, которые разрабатывают эти документы примерно такой: например, если в школе есть управляющий совет, то в памятке про управляющие советы сказано, что на его заседания нельзя входить с оружием. Ну, наверное, нужно было специальное предписание, потому что иначе людям непонятно.
Заикина: А как называется этот документ?
Макаров: В феврале-марте 2014 г. было письмо Министерства образования с предложением, в котором был модельный кодекс поведения педагога. На основе этого школы должны разрабатывать этические кодексы. Кто их принимает – совершенно непонятно. На практике это может быть и зам.директора по учебно-воспитательной работе, и педагогический совет, и общее собрание работников. То есть все работники школы. Это может быть и управляющий совет – то есть это не прописано, кто угодно. И дальше может быть создана комиссия по этике. Её создает управляющий совет. И это главный этический документ. Он совершенно необязательный, его может не быть в школах, а те, которые есть… Ну, часто лучше бы, чтобы его не было, потому что там написаны совершенно «прекрасные» вещи. Надо ещё понимать, что у нас есть закон об образовании, где в 48 статье сказано, что, среди прочего, педагог обязан следовать профессионально-этическим нормам. Если он им не следует, то это может учитываться при очередной аттестации, и, в принципе, можно даже уволить человека за нарушение этических норм. Но это прямо не прописано. Примерно так. То есть вообще с законами у нас некоторая проблема.
Солдатова: У нас есть Анна Шварц, которая имеет отношение к этическому кодексу, уставу — не знаю, как это называется, — который создается в школе 57.
Шварц: Всё это происходило в течение последнего полугода после того, как эта история не то чтобы случилась, но стала широко известна. Мы сидели группой заинтересованных лиц и брейнштормили: что бы такого можно сделать в школе, чтобы стало получше. Набрейнштормили мы в двух направлениях. Одно направление – следующие модели профессиональных этических комитетов или выстраивания корпоративной культуры. Это некоторая комиссия, в которую можно обратиться в связи с нарушением чего-то. А раз нарушение чего-то — значит, должен быть и кодекс. И это некоторая формальная структура, которая может проводить не то чтобы внутреннее расследование, но некоторый объективирующий анализ ситуации. Грубо говоря, что было, а чего не было. И, советуясь с администрацией, принимать дисциплинарные меры. Это вариант номер 1, и это то направление, о котором сейчас говорил Алексей. Какая может быть альтернатива или, может быть, не альтернатива, а дополнение – это создание службы уполномоченного. Здесь уже говорилось о защите ребёнка и защите его прав, а также о защите прав педагога. О том, что в школе всё время должен быть кто-то, кто болеет за эти самые права. И кто не пытается объективировать и выяснить, что было, а чего не было, а пытается со всеми поговорить и узнать, кому плохо и кому хорошо, какие ценности в школе соблюдаются, а какие нет. Эта служба уполномоченного, с нашей точки зрения, могла бы быть механизмом, который бы противостоял вот этой самой защите мундира. Потому что защита мундира – это значит, что нет институционализации, что каждый бьется за свою шкуру, и что это становится ведущей мотивацией. А это некоторая внутришкольная служа, которую мы видим состоящей, в первую очередь, из социальных работников. Наверное, они имеют психологическое образование, плюс к тому прошли специальные курсы, связанные с социальной работой, с подходом к правосудию, и их акцент – на работе с сообществом, на проведении тренингов, на создании каких-то развивающих пространств, где дети могли бы взаимодействовать друг с другом, а учителя – обсуждать какие-то задачи и успехи. Т.е., это некоторая дополнительная структура, которая, в идеале, сотрудничает с администрацией, с психологами, но, тем не менее, постоянно имеет свою собственную повестку, и самостоятельно отстаивает права всех участников образовательного процесса. Такого рода структуры кое-где создаются в России. Это может называться институтом омбудсменов, или службой уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, отчасти это может называться служба медиации. Конечно, их не очень много, но мы продолжаем надеяться, что что-то подобное может появиться и в 57 школе.
Заикина: А не очень много – это значит, что они есть?
Шварц: В каких-то школах есть документы, которые регламентируют эти действия. Конечно, на данном этапе нет другой структуры, которой они могут быть подотчётны, кроме директора, просто потому что нет такой межшкольной системы. Хотя вообще-то, в идеале, если опираться на опыт других стран, то и психологи, на мой взгляд, и социальные работники должны быть объединены в единую систему с собственной повесткой, отличную от академических достижений.
Петрановская: Да, это узкое место. Поскольку во множестве кейсов именно руководители учебных заведений или близкие к ним люди являются теми, от кого исходит угроза, то не очень понятно, как и при каких условиях в подчинении этим людям что-то можно сделать.
Шварц: В настоящий момент мы хотим, чтобы это было подчинение Управляющему совету. То есть какой-никакой, а общественный контроль и возможность выхода на уровень школы.
Как школьная система может саморегулироваться, что уже сделано, что может быть сделано?
Саморегуляция - это сочетание ежедневной социальной работы, работы в поле, с внешним общественным контролем. Две эти части должны быть обязательно в сочетании, без этого ничего не изменится. (Е. Шварц)
Солдатова: Нужно поговорить о том, как школьная система может саморегулироваться, что уже сделано, что может быть сделано. У нас такой вопрос стоит в повестке. В данном случае получается, что, например, служба уполномоченного может быть такой формой.
Шварц: Если говорить о саморегуляции, то это сочетание ежедневной социальной работы, работы в поле, с внешним общественным контролем. Две эти части должны быть обязательно в сочетании, без этого ничего не изменится.
Кедрова: Я помню, как это саморегулировалось в самой первой школе, в которой я училась. Там был учитель физкультуры, который время от времени любил обнимать девочек-старшеклассниц. И когда он делал это слишком интенсивно, то мальчики-старшеклассники его лупили (смех в зале). Таким образом он понимал меру. Существовала такая самоорганизующаяся система, которая определяла меру и давала обратную связь. Очень наглядную, с синяками… Я думаю, что как раз вопрос обратной связи очень важный. Когда кто-то может подавать сигналы.
Петрановская: Опять-таки можно привести аналогию с семьёй. Если в семье все переругались, там очень «грязная» атмосфера общения, мы начинаем налаживать коммуникации. Мы начинаем говорить: «А вот ты сказал ему: «Ты — тупой урод», — когда он взял твою вещь. Как можно по-другому это сказать? Ты подошёл и вырвал у него из рук эту вещь, как можно по-другому сказать, что она тебе нужна?». Все родители это сами делают со своими детьми, если дети дерутся между собой. Это работа по налаживанию коммуникации. И в этом смысле работа со школой не отличается от работы с любой другой группой. Если мы считаем, что в нашей группе всё как-то грязновато в плане общения, давайте что-то с этим делать, и каждый раз задавать себе вопрос: мой акт коммуникации, когда я говорю что-то другому или смотрю на него, или трогаю, или что-то ещё, -—он добавляет в наш котел чего? Уважения, поддержки, субъектности, безопасности? Или добавляет какие-то менее приятные ингредиенты? И мне кажется, что всегда очень важно, если мы работаем с буллингом в детском коллективе или другими не очень простыми и не очень безопасными границами отношений, то важно думать о группе в целом, это должно быть её делом. Когда группа решает, что «давайте мы сделаем как-то «почище» и безопаснее», то она берёт на себя эту ответственность, и она это делает. Иногда даже не вполне осознаваемыми и формализованными способами. Но это становится неприлично, невозможно, становится — «в нашей группе так не делают». А ещё год назад было прилично и возможно.
Шварц. Да, спасибо. Мне кажется, что эта аналогия очень актуальна. И дело ведь ещё в том, что учителя в школах, особенно в спецшколах, – чаще всего предметники. То есть их никогда не учили, как работать с детьми. Они никогда не были ни в каком педвузе, и что такое буллинг или что такое общение с классом, они часто просто не знают. И в этом смысле, действительно, очень важно, чтобы сообщество решило, что мы теперь хотим «почище» и «получше». И в этом плане мы рассматриваем такой принцип, как empowerment. То есть это не социальные работники, которые постоянно ведут и объясняют учителям, как им себя вести, а это работа на приглашение всего учительского коллектива к ответственности вести себя соответствующим образом и поддержка в обретении новых моделей коммуникации. Потому что откуда им их ещё взять, если не от каких-то внешних специалистов, если они не научились раньше.
Шварц: Если говорить о саморегуляции, то это сочетание ежедневной социальной работы, работы в поле, с внешним общественным контролем. Две эти части должны быть обязательно в сочетании, без этого ничего не изменится.
Кедрова: Я помню, как это саморегулировалось в самой первой школе, в которой я училась. Там был учитель физкультуры, который время от времени любил обнимать девочек-старшеклассниц. И когда он делал это слишком интенсивно, то мальчики-старшеклассники его лупили (смех в зале). Таким образом он понимал меру. Существовала такая самоорганизующаяся система, которая определяла меру и давала обратную связь. Очень наглядную, с синяками… Я думаю, что как раз вопрос обратной связи очень важный. Когда кто-то может подавать сигналы.
Петрановская: Опять-таки можно привести аналогию с семьёй. Если в семье все переругались, там очень «грязная» атмосфера общения, мы начинаем налаживать коммуникации. Мы начинаем говорить: «А вот ты сказал ему: «Ты — тупой урод», — когда он взял твою вещь. Как можно по-другому это сказать? Ты подошёл и вырвал у него из рук эту вещь, как можно по-другому сказать, что она тебе нужна?». Все родители это сами делают со своими детьми, если дети дерутся между собой. Это работа по налаживанию коммуникации. И в этом смысле работа со школой не отличается от работы с любой другой группой. Если мы считаем, что в нашей группе всё как-то грязновато в плане общения, давайте что-то с этим делать, и каждый раз задавать себе вопрос: мой акт коммуникации, когда я говорю что-то другому или смотрю на него, или трогаю, или что-то ещё, -—он добавляет в наш котел чего? Уважения, поддержки, субъектности, безопасности? Или добавляет какие-то менее приятные ингредиенты? И мне кажется, что всегда очень важно, если мы работаем с буллингом в детском коллективе или другими не очень простыми и не очень безопасными границами отношений, то важно думать о группе в целом, это должно быть её делом. Когда группа решает, что «давайте мы сделаем как-то «почище» и безопаснее», то она берёт на себя эту ответственность, и она это делает. Иногда даже не вполне осознаваемыми и формализованными способами. Но это становится неприлично, невозможно, становится — «в нашей группе так не делают». А ещё год назад было прилично и возможно.
Шварц. Да, спасибо. Мне кажется, что эта аналогия очень актуальна. И дело ведь ещё в том, что учителя в школах, особенно в спецшколах, – чаще всего предметники. То есть их никогда не учили, как работать с детьми. Они никогда не были ни в каком педвузе, и что такое буллинг или что такое общение с классом, они часто просто не знают. И в этом смысле, действительно, очень важно, чтобы сообщество решило, что мы теперь хотим «почище» и «получше». И в этом плане мы рассматриваем такой принцип, как empowerment. То есть это не социальные работники, которые постоянно ведут и объясняют учителям, как им себя вести, а это работа на приглашение всего учительского коллектива к ответственности вести себя соответствующим образом и поддержка в обретении новых моделей коммуникации. Потому что откуда им их ещё взять, если не от каких-то внешних специалистов, если они не научились раньше.
Вопросы и комментарии
Сексофобия, доведённая до крайности, очень сильно распространена. Очень часто это выражается ещё и в том, что люди или целые институции отрицают идею о том, что у подростков есть сексуальность. (Т. Никонова)
Солдатова: У нас сейчас короткое время для комментариев и вопросов.
Вопрос 4: Я слушаю все эти слова, и всё это здорово и замечательно. Буквально 5 часов назад в моей фейсбучной ленте появилось сообщение от моей знакомой, которая сейчас учится на ювелира. У неё есть некоторые учебные работы, выполненные в форме мужских половых членов. При этом девочка — кандидат филологических наук, недавно устроилась работать в школу преподавателем русского языка. В какой-то момент ей заявили, что это неэтично — выкладывать в фейсбук такие вещи, и если она не удалит это всё, её уволят. Лично вызвал директор на ковер и, собственно, уволил. Примечательно, что прошлое место работы девочки – это одно из православных образовательных учреждений. Там таких проблем не возникало. Это частный случай, а вопрос у меня более общий. Мне кажется, что мы говорим с учителями о таких вещах, которые, к сожалению, большинство из них не понимает. У людей, которые работают в школе, очень высокий возрастной ценз, и у большинства из них понятие сексуального образования вызывает оторопь и шок. И большинство людей, которые работают в школах, не понимает, какое поведение может быть интерпретировано как сексуальное. Тем более они не представляют себе, что такое харассмент и все эти англоязычные слова. Может быть, стоит начать с того, чтобы разговаривать с учителями на каких-то курсах повышения квалификации о том, что это и как с этим работать?
Никонова: Я бы сказала, что страх каких-то изображений сексуальности – это проблема не только российской школы. Потому что если вы попробуете выложить изображение пениса в фейсбук, то фейсбук вас забанит. Меня банил на месяц. Поэтому сексофобия, доведённая до крайности, до страха вида обнажённой плоти, разговоров об этом, очень сильно распространена. И очень часто это выражается ещё и в том, что люди или целые институции отрицают идею о том, что у подростков есть сексуальность. То есть, например, когда обсуждается сексуальный абьюз в школе, есть такой взгляд: «Это юная девочка, она ничего не знала, её страшно испортили, а сама ничего от педагога не хотела». А она, несмотря на то, что она пострадала, вполне могла чего-то и хотеть. Просто она не умеет ещё с этим разбираться, не понимает, куда это может завести, и не умеет этим управлять. Именно поэтому она оказывается в такой неприятной и травмирующей ситуации — потому что взрослые этим воспользовались. Но школа, к сожалению, это большое зеркало того, что происходит. Потому что и родителям очень трудно бывает признать, что их дети имеют какие-то представления о сексе. Я как-то читала статью о большом исследовании детей и подростков в разных странах, где уже давно введено в том или ином виде сексуальное образование в школах. И их расспрашивали о том, что их напрягает в этом сексуальном образовании. Их напрягали совершенно одинаковые вещи. Во-первых, то, что оно чрезмерно технично. Это похоже на старые сексуальные энциклопедии для детей: «Это Пол и Мэри. Они познакомились в кино, они долго играли в теннис, они полюбили друг друга, они поженились. А теперь давайте расскажем про яйцеклетку». Технические моменты часто до определённого возраста вообще никого не интересуют. Потому что это, конечно, очень важно и полезно знать, к чему могут привести твои отношения, но на самом деле детей очень часто интересуют две вещи. Первое: чтобы им рассказывали об этом подготовленные сотрудники. В той статье была приведена история о том, как, кажется, в Великобритании, учительница плакала, пока рассказывала об этом (смех в зале). Ей было тяжело. Я могу её понять. Если бы мне школьники задавали какие-то вопросы, мне тоже было бы тяжело. Второе, что их раздражает, — это то, что это совершенно не приспособлено к реальной жизни. Потому что если мы говорим о маленьких детях, которые получают первые знания, — это одно. Но когда речь идёт о подростках, — потому что, как правило, начинают такие разговоры с подростком, — то мало того, что эти дети много знают, — хотя и не то, что хотелось бы, — они могут ещё и заниматься сексом. Им рассказывают про отношения. А они не собираются вступать в отношения, или у них отношения довольно расплывчатые. Им не рассказывают про секс в контексте отношений. Им не рассказывают о том, что делать, если ты решила сохранить ребёнка. Вот тебе 15, так получилось, ты решила сохранить ребёнка. Что делать-то, куда идти? На какой неделе тебе нужно обращаться к маме, если ты не хочешь сохранить ребёнка? Как определить, что у тебя может быть ребёнок? В какой ситуации это может оказаться? Мне, например, тоже писали разные странные порой вопросы про предохранение. И я думаю, честно говоря, что нам нужно не только детей образовывать, но и взрослых, и объяснять им, что человек — это сексуальное существо. Почему вы не можете это понять? Которому нужна защита. А защита может быть только в виде информации. Это, к сожалению, очень сильно конфликтует с тем, что мы сейчас имеем, когда говорят, что детей якобы нужно защитить от вредной информации. Хотя на самом деле та информация, которую они могут получить, очень полезная. Я считаю, что сексуальное образование должно базироваться на рассказах. Это рассказы о принципах согласия. Потому что до сих пор, например, можно услышать, что главное, чтобы женщина и любой человек, на которого нападают, попробовали сказать «нет». Ну, во-первых, насильник не слышит, а во-вторых, мы должны говорить про то, что это активное и ярко выраженное согласие. Также нужно говорить о личной безопасности, в том числе эмоциональной. Потому что не все подростки в состоянии справиться с теми чувствами, которые им даёт секс и любое сексуальное взаимодействие. Потому что это не то, о чём их предупреждали, им об этом не говорят. И третье – это не только вопросы удовольствия, а, скорее, вопросы «зачем это нужно»: какой смысл секса и сексуальных взаимоотношений и отношений вообще для человека. Насколько ценны для человека отношения, почему они должны строиться именно так. Можно ли сексом покупать отношения, или наоборот. Как эти вещи взаимосвязаны. Я боюсь, конечно, что сотрудники школ, которые боятся того, чего боится фейсбук, не справятся с этим. Но, возможно, какие-то специально обученные люди, которые приходили бы обучать детей, спасли бы ситуацию.
Литвин: Насколько я поняла ваш вопрос, там было два разных вопроса. И первый был о том, насколько пространство в фейсбуке является публичным, приватным, можно ли за него наказывать. Это ведь не только про учителей. Сколько уже было таких историй про журналистов, про журналистскую этику, про уголовно наказуемые лайки, перепосты и т.д. У меня нет на это ответа. Но мне кажется важным понимать, что это не только про учителей, а о том, что ситуация очень быстро и очень сильно меняется в целом. А второе – то, что касается сексуального образования учителей, которые не понимают слова «харассмент» и других страшных иностранных слов, то да, наверное, нужно делать курсы, но для этого нужны фонды, время и желательно государственный бюджет. Но уже сейчас делаются вещи, которые можно сделать проще, и люди, которые в этом заинтересованы, могут пойти и почитать. Например, mel.fm, онлайн газета про школьное преподавание, очень много об этом пишет. «Троицкий вариант», насколько я помню, тоже. Есть много других сайтов, которые пишут разные тексты социальной направленности. И в группе «Лиги школ», когда стало понятно, что мы тоже не очень понимаем значения всех этих слов и что хотелось бы с этим разобраться, у нас образовалась целая команда переводчиков и редакторов. И мы, во-первых, сделали словарь терминов, с этим связанных, а, во-вторых, перевели с английского несколько статей, посвящённых тому, как выявлять абьюзеров, чем друг от друга отличаются разные люди, чем педофилия отличается от сексуального абьюза и разные такие вещи. Нам нужно было разобраться в терминологии для себя в первую очередь. Кроме того, когда читаешь про другие случаи, оказывается, что то, что тебе казалось странным, на самом деле типичное. И это очень важный момент – понимать, что какие-то ситуации, в которые ты попадаешь, они типичные. В этом смысле очень важно читать про другой опыт. Мы обнаружили такого исследователя, который был специальным агентом ФБР, занимающимся сексуальными преступлениями, связанными с детьми. Его зовут Кеннет Леннинг, он работал около тридцати лет в ФБР, примерно с 1970 по 2000, и довольно много об этом написал. Его тексты – это отчёты и инструкции, предназначенные следователям и криминалистам. И там он пишет, во-первых, о том, что есть педофилия и есть абьюз. Педофилия – это желание, которое может никак не проявляться и не быть опасным, или быть опасным в определённых ситуациях, а абьюз – это действия, это нужно различать. Во-вторых, он пишет о том, о чём сегодня здесь уже говорилось: что есть люди, действия которых — результат не педофилии, а «упоения властью» и т.п. В третьих, он пишет о том, какими бывают реакции детей и как с этим справляться взрослым. Что дети, например, склонны отрицать то, что с ними происходило, склонны забывать это, у них бывают разные посттравматические расстройства и т.д. Они также склонны покрывать абьюзеров, потому что – и здесь он раскрывает ещё один важный миф, говоря, что абьюзер, так же как это бывает с «обычными» изнасилованиями», это не незнакомый человек с улицы, а тот, кто много сил и времени потратил на то, чтобы приблизиться и определённым образом завоевать доверие ребёнка, именно поэтому ребёнок его дальше покрывает. Кроме того, он говорит о том, какими бывают стратегии и типичные реакции абьюзеров после того, как им предъявляют обвинения. И, наконец, — это не имеет прямого отношения к нашей сегодняшней теме, но всё-таки некоторым образом её касается, — Леннинг, который в течение нескольких десятилетий расследовал сексуальный абьюз в отношении детей, в какой-то момент столкнулся с феноменом, который называется «сатанинская паника». Это когда в 1980-е годы в США появились массовые моральные паники на тему того, что существуют какие-то сатанисты – совершенно непонятно кто именно, это приписывалась самым разным религиозным и не только группам, — которые убивают детей, совершая религиозные жертвоприношения. В 1990-е и позже об этом было написано большое количество антропологических и социологических работ, где говорилось, что это действительно паника, а не реальные действия. И Леннинг был одним из первых людей, который, соотнеся со своим предыдущим богатым опытом, сказал: «Ребята, что-то здесь не так. Эти истории не похожи на все те свидетельства, с которыми я и мои коллеги имели дело». И мне кажется важным упомянуть, потому что сейчас в российском интернете мы имеем очень распространенный похожий феномен, связанный с «группами самоубийц». Это не тема сегодняшнего обсуждения, но всех желающих об этом поговорить можно было бы пригласить на круглый стол, посвящённый «синим китам» и «феям винкс», который будет проходить 8 апреля в РАНХиГС. Мы наши тексты пока не опубликовали, но скоро это сделаем, а оригиналы все выложены в публичный доступ и их легко найти.
Вопрос 4: Я слушаю все эти слова, и всё это здорово и замечательно. Буквально 5 часов назад в моей фейсбучной ленте появилось сообщение от моей знакомой, которая сейчас учится на ювелира. У неё есть некоторые учебные работы, выполненные в форме мужских половых членов. При этом девочка — кандидат филологических наук, недавно устроилась работать в школу преподавателем русского языка. В какой-то момент ей заявили, что это неэтично — выкладывать в фейсбук такие вещи, и если она не удалит это всё, её уволят. Лично вызвал директор на ковер и, собственно, уволил. Примечательно, что прошлое место работы девочки – это одно из православных образовательных учреждений. Там таких проблем не возникало. Это частный случай, а вопрос у меня более общий. Мне кажется, что мы говорим с учителями о таких вещах, которые, к сожалению, большинство из них не понимает. У людей, которые работают в школе, очень высокий возрастной ценз, и у большинства из них понятие сексуального образования вызывает оторопь и шок. И большинство людей, которые работают в школах, не понимает, какое поведение может быть интерпретировано как сексуальное. Тем более они не представляют себе, что такое харассмент и все эти англоязычные слова. Может быть, стоит начать с того, чтобы разговаривать с учителями на каких-то курсах повышения квалификации о том, что это и как с этим работать?
Никонова: Я бы сказала, что страх каких-то изображений сексуальности – это проблема не только российской школы. Потому что если вы попробуете выложить изображение пениса в фейсбук, то фейсбук вас забанит. Меня банил на месяц. Поэтому сексофобия, доведённая до крайности, до страха вида обнажённой плоти, разговоров об этом, очень сильно распространена. И очень часто это выражается ещё и в том, что люди или целые институции отрицают идею о том, что у подростков есть сексуальность. То есть, например, когда обсуждается сексуальный абьюз в школе, есть такой взгляд: «Это юная девочка, она ничего не знала, её страшно испортили, а сама ничего от педагога не хотела». А она, несмотря на то, что она пострадала, вполне могла чего-то и хотеть. Просто она не умеет ещё с этим разбираться, не понимает, куда это может завести, и не умеет этим управлять. Именно поэтому она оказывается в такой неприятной и травмирующей ситуации — потому что взрослые этим воспользовались. Но школа, к сожалению, это большое зеркало того, что происходит. Потому что и родителям очень трудно бывает признать, что их дети имеют какие-то представления о сексе. Я как-то читала статью о большом исследовании детей и подростков в разных странах, где уже давно введено в том или ином виде сексуальное образование в школах. И их расспрашивали о том, что их напрягает в этом сексуальном образовании. Их напрягали совершенно одинаковые вещи. Во-первых, то, что оно чрезмерно технично. Это похоже на старые сексуальные энциклопедии для детей: «Это Пол и Мэри. Они познакомились в кино, они долго играли в теннис, они полюбили друг друга, они поженились. А теперь давайте расскажем про яйцеклетку». Технические моменты часто до определённого возраста вообще никого не интересуют. Потому что это, конечно, очень важно и полезно знать, к чему могут привести твои отношения, но на самом деле детей очень часто интересуют две вещи. Первое: чтобы им рассказывали об этом подготовленные сотрудники. В той статье была приведена история о том, как, кажется, в Великобритании, учительница плакала, пока рассказывала об этом (смех в зале). Ей было тяжело. Я могу её понять. Если бы мне школьники задавали какие-то вопросы, мне тоже было бы тяжело. Второе, что их раздражает, — это то, что это совершенно не приспособлено к реальной жизни. Потому что если мы говорим о маленьких детях, которые получают первые знания, — это одно. Но когда речь идёт о подростках, — потому что, как правило, начинают такие разговоры с подростком, — то мало того, что эти дети много знают, — хотя и не то, что хотелось бы, — они могут ещё и заниматься сексом. Им рассказывают про отношения. А они не собираются вступать в отношения, или у них отношения довольно расплывчатые. Им не рассказывают про секс в контексте отношений. Им не рассказывают о том, что делать, если ты решила сохранить ребёнка. Вот тебе 15, так получилось, ты решила сохранить ребёнка. Что делать-то, куда идти? На какой неделе тебе нужно обращаться к маме, если ты не хочешь сохранить ребёнка? Как определить, что у тебя может быть ребёнок? В какой ситуации это может оказаться? Мне, например, тоже писали разные странные порой вопросы про предохранение. И я думаю, честно говоря, что нам нужно не только детей образовывать, но и взрослых, и объяснять им, что человек — это сексуальное существо. Почему вы не можете это понять? Которому нужна защита. А защита может быть только в виде информации. Это, к сожалению, очень сильно конфликтует с тем, что мы сейчас имеем, когда говорят, что детей якобы нужно защитить от вредной информации. Хотя на самом деле та информация, которую они могут получить, очень полезная. Я считаю, что сексуальное образование должно базироваться на рассказах. Это рассказы о принципах согласия. Потому что до сих пор, например, можно услышать, что главное, чтобы женщина и любой человек, на которого нападают, попробовали сказать «нет». Ну, во-первых, насильник не слышит, а во-вторых, мы должны говорить про то, что это активное и ярко выраженное согласие. Также нужно говорить о личной безопасности, в том числе эмоциональной. Потому что не все подростки в состоянии справиться с теми чувствами, которые им даёт секс и любое сексуальное взаимодействие. Потому что это не то, о чём их предупреждали, им об этом не говорят. И третье – это не только вопросы удовольствия, а, скорее, вопросы «зачем это нужно»: какой смысл секса и сексуальных взаимоотношений и отношений вообще для человека. Насколько ценны для человека отношения, почему они должны строиться именно так. Можно ли сексом покупать отношения, или наоборот. Как эти вещи взаимосвязаны. Я боюсь, конечно, что сотрудники школ, которые боятся того, чего боится фейсбук, не справятся с этим. Но, возможно, какие-то специально обученные люди, которые приходили бы обучать детей, спасли бы ситуацию.
Литвин: Насколько я поняла ваш вопрос, там было два разных вопроса. И первый был о том, насколько пространство в фейсбуке является публичным, приватным, можно ли за него наказывать. Это ведь не только про учителей. Сколько уже было таких историй про журналистов, про журналистскую этику, про уголовно наказуемые лайки, перепосты и т.д. У меня нет на это ответа. Но мне кажется важным понимать, что это не только про учителей, а о том, что ситуация очень быстро и очень сильно меняется в целом. А второе – то, что касается сексуального образования учителей, которые не понимают слова «харассмент» и других страшных иностранных слов, то да, наверное, нужно делать курсы, но для этого нужны фонды, время и желательно государственный бюджет. Но уже сейчас делаются вещи, которые можно сделать проще, и люди, которые в этом заинтересованы, могут пойти и почитать. Например, mel.fm, онлайн газета про школьное преподавание, очень много об этом пишет. «Троицкий вариант», насколько я помню, тоже. Есть много других сайтов, которые пишут разные тексты социальной направленности. И в группе «Лиги школ», когда стало понятно, что мы тоже не очень понимаем значения всех этих слов и что хотелось бы с этим разобраться, у нас образовалась целая команда переводчиков и редакторов. И мы, во-первых, сделали словарь терминов, с этим связанных, а, во-вторых, перевели с английского несколько статей, посвящённых тому, как выявлять абьюзеров, чем друг от друга отличаются разные люди, чем педофилия отличается от сексуального абьюза и разные такие вещи. Нам нужно было разобраться в терминологии для себя в первую очередь. Кроме того, когда читаешь про другие случаи, оказывается, что то, что тебе казалось странным, на самом деле типичное. И это очень важный момент – понимать, что какие-то ситуации, в которые ты попадаешь, они типичные. В этом смысле очень важно читать про другой опыт. Мы обнаружили такого исследователя, который был специальным агентом ФБР, занимающимся сексуальными преступлениями, связанными с детьми. Его зовут Кеннет Леннинг, он работал около тридцати лет в ФБР, примерно с 1970 по 2000, и довольно много об этом написал. Его тексты – это отчёты и инструкции, предназначенные следователям и криминалистам. И там он пишет, во-первых, о том, что есть педофилия и есть абьюз. Педофилия – это желание, которое может никак не проявляться и не быть опасным, или быть опасным в определённых ситуациях, а абьюз – это действия, это нужно различать. Во-вторых, он пишет о том, о чём сегодня здесь уже говорилось: что есть люди, действия которых — результат не педофилии, а «упоения властью» и т.п. В третьих, он пишет о том, какими бывают реакции детей и как с этим справляться взрослым. Что дети, например, склонны отрицать то, что с ними происходило, склонны забывать это, у них бывают разные посттравматические расстройства и т.д. Они также склонны покрывать абьюзеров, потому что – и здесь он раскрывает ещё один важный миф, говоря, что абьюзер, так же как это бывает с «обычными» изнасилованиями», это не незнакомый человек с улицы, а тот, кто много сил и времени потратил на то, чтобы приблизиться и определённым образом завоевать доверие ребёнка, именно поэтому ребёнок его дальше покрывает. Кроме того, он говорит о том, какими бывают стратегии и типичные реакции абьюзеров после того, как им предъявляют обвинения. И, наконец, — это не имеет прямого отношения к нашей сегодняшней теме, но всё-таки некоторым образом её касается, — Леннинг, который в течение нескольких десятилетий расследовал сексуальный абьюз в отношении детей, в какой-то момент столкнулся с феноменом, который называется «сатанинская паника». Это когда в 1980-е годы в США появились массовые моральные паники на тему того, что существуют какие-то сатанисты – совершенно непонятно кто именно, это приписывалась самым разным религиозным и не только группам, — которые убивают детей, совершая религиозные жертвоприношения. В 1990-е и позже об этом было написано большое количество антропологических и социологических работ, где говорилось, что это действительно паника, а не реальные действия. И Леннинг был одним из первых людей, который, соотнеся со своим предыдущим богатым опытом, сказал: «Ребята, что-то здесь не так. Эти истории не похожи на все те свидетельства, с которыми я и мои коллеги имели дело». И мне кажется важным упомянуть, потому что сейчас в российском интернете мы имеем очень распространенный похожий феномен, связанный с «группами самоубийц». Это не тема сегодняшнего обсуждения, но всех желающих об этом поговорить можно было бы пригласить на круглый стол, посвящённый «синим китам» и «феям винкс», который будет проходить 8 апреля в РАНХиГС. Мы наши тексты пока не опубликовали, но скоро это сделаем, а оригиналы все выложены в публичный доступ и их легко найти.
Какие возможности и ограничения есть у сегодняшнего сексуального образования в школах?
Культура телесности начинается не в школе, а раньше – банальный пример: приходит бабушка, которая обожает своего внука, бежит к нему, давай его тискать и целовать, и никого не волнует, что внук по этому поводу чувствует. И если он сопротивляется - он получает послание о том, что бабушкины добрые намерения важнее того, хорошо тебе это или плохо. (Н. Монастырская)
Заикина: Последний вопрос – это задел на будущую работу, так как здесь много людей, которые занимаются сексуальным образованием, – какие возможности и ограничения есть у сегодняшнего сексуального образования в школах?
Солдатова: И у меня ещё вопрос: как вы думаете, какие могут быть действия по профилактике харассмента в школах? То ли это может быть сексуальное образование, то ли курсы повышения квалификации учителей, кто их мог бы проводить? Это вопросы практические, они ко всем. Я начинаю собирать идеи, и если кто-то хочет в этом поучаствовать, то можно связаться со мной.
Никонова: Писатель Эрих Кестнер однажды написал, что не всё что происходит с детьми, годится для детского чтения. И этого же принципа придерживаются, по-моему, все в России. Вот у нас такие законы, и очень часто у нас руки связаны из-за законодательных ограничений. Очень трудно, например, говорить о сексуальности с детьми, если мы не можем говорить об ЛГБТ. Если мы не можем говорить о том, кем дети являются, в кого они могут вырасти, как они себя чувствуют, почему люди себя так чувствуют. Невозможно рассказывать об этом только как в гетеронормативной норме, они сразу почувствуют, что ты не говоришь честно. А если ты не говоришь честно, то тебе верить не будут даже в том, что ты говоришь правильно. У меня есть знакомая, которая хотела сделать свой образовательный проект. Она акушер-гинеколог — принимает роды, ведёт беременности. У неё много 16 и даже 14-летних пациенток: девочек, которые приходят беременными, и поскольку они не имеют никакого представления о том, что это такое, они очень часто приходят на том моменте, когда сделать уже ничего нельзя. Поэтому только рожать, а дальше — уж как семья решит. И она хотела сделать некоторую программу для школ по сексуальному просвещению, просто о контрацепции, о самых базовых вещах, как девочке защититься в этом случае. Но у неё ничего не вышло, её не пустили. И даже если на это нет никаких законодательных ограничений, включается школьное «как бы ничего не вышло», потому что, как уже было сказано, и учителя, и школьная администрация сейчас находятся под очень большим прессингом. И шаг вправо, шаг влево могут вылиться им в такие серьезные проблемы, что они очень часто не пытаются как-то помочь детям в этом случае. Я, честно говоря, не знаю, как здесь нужно поступать и как на это можно сейчас повлиять. Нам нужно работать не только с детьми, но и со взрослыми тоже. Если речь идёт о школьных психологах или даже просто учителях. Вот, предположим, они видят, что происходит что-то не то. У них должен быть понятный протокол действий, что в таком случае делать. Причём не просто протокол действий вроде «звонить в полицию», а какой-то более экологичный. Потому что, во-первых, могло показаться. Во-вторых, если по каждому чиху нужно звонить в полицию и прокуратуру, от школы вообще ничего не останется: она станет настолько забюрократизированной и жесткой структурой, что первые люди, кому там станет несладко, это будут дети. Нужно более мягко работать. Человек должен понимать, с кем он может обсудить, он должен знать, где ему взять эти тренинги и протоколы. Что ему делать, если он не встретит поддержку и они скажут: «Да ладно, всё в порядке». То есть пока мы не дадим эти инструменты взрослым, мы не можем по большому счёту требовать от них, чтобы они занимались сексуальным просвещением детей. Максимум, что мы можем потребовать сейчас от них, – это чтобы они не транслировали гендерные стереотипы, не говорили всякие неправильные и неприятные вещи, которые могут повлиять на будущих детей.
Петрановская. С одной стороны, здесь есть наше государство, которое предлагает всем: «зажмурься, сделай вид, что ничего нет, и ничего не будет». И школа, которая перестраховывается и не пускает, и дальше начинается общественная волна «научат детей плохому». Другая сторона, — это дети, которые в силу доступа к большому количеству всего в интернете иногда, по крайней мере они так думают, очень много чего знают. А ещё есть их реальная жизнь, о которой мы на самом деле ничего не знаем. У меня был такой опыт, когда случился скандал вокруг книги «50 дней до моего самоубийства». Её запретили издавать и издательство попросило меня посмотреть, что это за книга и правда ли она подталкивает детей к самоубийству. Я прочитала её, и у меня была такая реакция: «Ну, как-то всё это… не может такого быть. У обычной девочки из обычной семьи… что только там у неё не случилось. Как-то это чересчур. И изнасиловать её пытались, и в перестрелку с наркоторговцами она попадала...». И я написала примерно такой отзыв, что книжка вроде более-менее безвредная, заканчивается там всё хорошо, и девочка не заканчивает жизнь самоубийством, но как литература это выглядит надуманной и развесистой клюквой. А через какое-то время, когда её уже издали, я общалась с человеком, который видел комментарии детей. И там были тысячи, тысячи комментариев, где говорилось: «Ну надо же, всё как в жизни. Это наша жизнь. Правда же кто-то написал, как на самом деле мы живём». То есть мы настолько ничего не понимаем, как у них в реальности, что не надо питать иллюзий, что даже те из нас, кто умеет произносить слово «пенис», хоть что-то себе представляет. А если мы говорим про нашу школу с тётеньками, которые реально там сидят, то там такая вилка с двух сторон: действительно, совершенно нормальными считаются скабрезные шуточки прямо на уроке, а, с другой стороны, слово «пенис» произнести нельзя, кроме как падая в обморок. С одной стороны, ханжество, а с другой стороны – реальная жизнь детей, которая очень далеко превосходит наши самые смелые представления. И нужно хоть как-то пытаться об этом говорить. Потому что как ты их будешь образовывать, если они считают, что они в десять раз круче и умнее, и, возможно, это правда так.
Кедрова: Мне кажется, что то, что должно быть основанием, это даже не непосредственно про сексуальность. Это по поводу телесности и границ, про которые можно говорить с начальной школы: понимание своего тела, как обращаться со своим телом, понимание того, что ты хозяин своего тела. И какая-то культура обращения: что ты решаешь, кто что может с тобой делать, а кто нет. Конечно, хорошо, когда это происходит в семье и на дошкольных уровнях, но это не должно вызывать каких-то протестов, потому что это безобидно и наглядно. А вторая вещь – это открыться и возможность обсуждать разные вещи, то есть это атмосфера взаимного уважения. За счёт чего она может вырасти – я не знаю. Может быть, если не изнутри школы, то снаружи, чтобы приходили какие-то люди, которые бы приходили и уважительно разговаривали с этими несчастными. Потому что правда это адская работа, и очень большой дефицит уважения. И мне кажется, если школы начнут делать сами какие-то этические комиссии, в которых можно будет обсуждать и прояснять непонятные вещи, касающиеся не грубого насилия или битья, а каких-то неоднозначных ситуаций. Может быть, это будут социальные работники или психологи, которые смогут создать нужную атмосферу, потому что у детей тоже может быть куча своих заморочек. В какой-то ситуации может быть очень выигрышно оговорить учителя: он тебя обидел, а ты на него пожаловался, и твоя двойка отомщена. В какой-то ситуации это реально может быть. И пространство, в котором это может обсуждаться… Даже если это возникнет в каких-то отдельных местах, это уже будет хорошо. А в глобальном плане, конечно…
Шварц: У меня житейский вопрос. Евгения говорила про издательскую деятельность, а я какое-то время назад решила купить своему ребёнку сексуальную энциклопедию. Ему 9 лет, и пора бы уже, даже уже поздновато. И невозможно. Это не мне так кажется, а их просто нет? Я не нашла ничего, кроме «Поговорить про это», что мне уже сразу претит, потому что это означает, что мы не будем разговаривать нормальными словами. И вот у меня вопрос: вроде бы сейчас так много независимых издательств, они издают прекрасные детские книги — это невозможно?
Заикина: На них стоит марка «18+».
Никонова: Я недавно обсуждала с подругой — у неё ребёнок в 1ом или 2ом классе, я уже не помню — она жаловалась как раз на то, что приходится выискивать книги, в которых было бы хоть что-то описано. Поскольку у неё совсем маленький ребёнок, ей нужны не столько технические моменты, а, действительно, про границы, про своё тело, про возможности. Этого фактически нет. Сегодня я разговаривала с подругой, которая мне жаловалась ровно на то же, и список книг она нашла у Даши Серенко во время «Тихого пикета». И это были книги, которые приходилось искать где-то по букинистам, потому что в открытой продаже их нет. Я сейчас готовлю проект для подростков, в котором хочу изложить многое. И первое, что я сделала, когда я его придумала, – нашла себе юриста. И заложила в бюджет первый штраф. Много штрафов я не потяну, но через первый смогу как-то проскочить. Это всё очень страшно, но если мы будем стараться, разговаривать, то, возможно, мы как-то сможем.
Шварц: Может быть, можно выкладывать сканы старых книг? Потому что я к тому пришла в итоге. Будем передавать друг другу книги.
Монастырская: Культура телесности начинается не в школе, а тогда, когда – самый типичный банальный пример: приходит бабушка, которая обожает своего внука, бежит к нему, давай его тискать и целовать, и никого не волнует, что этот внук по этому поводу чувствует. И если он сопротивляется – потому что кто-то уже и не сопротивляется - он получает в этот момент послание о том, что бабушкины добрые намерения важнее того, хорошо тебе это или плохо. И в том смысле, конечно, речь идёт о просвещении родителей, о том, как обращаться с чувствами ребёнка, который протестует, когда ты ставишь границу. Очень часто у родителей есть такое представление, что если я ставлю границу, то я и сам должен быть непроницаемый в этот момент. И тут у меня открытый вопрос. Понятно, что у нас есть родители, которые и так достаточно продвинутые. Есть, наоборот, родители, которые не готовы ничего знать, слушать и как-то себе понимать. И я не знаю, бывают ли инструменты, чтобы что-то донести до таких родителей. Но есть ещё такая прослойка родителей, которые интересуются, готовы, но пока ещё и себя не понимают, не уверены, и, может быть, пока не готовы к специалистам-психологам ходить. Вот здесь можно работать, может быть, через какие-то технологии вроде социальных роликов, которые могут показать аналогию между любимой бабушкой и абъюзером, который точно также сажает ребёнка к себе на колени. Которые могут показать рядом эти два явления, чтобы родители могли увидеть связь и подумать о том, как ему уже сейчас с маленьким ребёнком и с бабушкой об этом говорить. Мне кажется, это тоже важная часть работы.
Солдатова: И у меня ещё вопрос: как вы думаете, какие могут быть действия по профилактике харассмента в школах? То ли это может быть сексуальное образование, то ли курсы повышения квалификации учителей, кто их мог бы проводить? Это вопросы практические, они ко всем. Я начинаю собирать идеи, и если кто-то хочет в этом поучаствовать, то можно связаться со мной.
Никонова: Писатель Эрих Кестнер однажды написал, что не всё что происходит с детьми, годится для детского чтения. И этого же принципа придерживаются, по-моему, все в России. Вот у нас такие законы, и очень часто у нас руки связаны из-за законодательных ограничений. Очень трудно, например, говорить о сексуальности с детьми, если мы не можем говорить об ЛГБТ. Если мы не можем говорить о том, кем дети являются, в кого они могут вырасти, как они себя чувствуют, почему люди себя так чувствуют. Невозможно рассказывать об этом только как в гетеронормативной норме, они сразу почувствуют, что ты не говоришь честно. А если ты не говоришь честно, то тебе верить не будут даже в том, что ты говоришь правильно. У меня есть знакомая, которая хотела сделать свой образовательный проект. Она акушер-гинеколог — принимает роды, ведёт беременности. У неё много 16 и даже 14-летних пациенток: девочек, которые приходят беременными, и поскольку они не имеют никакого представления о том, что это такое, они очень часто приходят на том моменте, когда сделать уже ничего нельзя. Поэтому только рожать, а дальше — уж как семья решит. И она хотела сделать некоторую программу для школ по сексуальному просвещению, просто о контрацепции, о самых базовых вещах, как девочке защититься в этом случае. Но у неё ничего не вышло, её не пустили. И даже если на это нет никаких законодательных ограничений, включается школьное «как бы ничего не вышло», потому что, как уже было сказано, и учителя, и школьная администрация сейчас находятся под очень большим прессингом. И шаг вправо, шаг влево могут вылиться им в такие серьезные проблемы, что они очень часто не пытаются как-то помочь детям в этом случае. Я, честно говоря, не знаю, как здесь нужно поступать и как на это можно сейчас повлиять. Нам нужно работать не только с детьми, но и со взрослыми тоже. Если речь идёт о школьных психологах или даже просто учителях. Вот, предположим, они видят, что происходит что-то не то. У них должен быть понятный протокол действий, что в таком случае делать. Причём не просто протокол действий вроде «звонить в полицию», а какой-то более экологичный. Потому что, во-первых, могло показаться. Во-вторых, если по каждому чиху нужно звонить в полицию и прокуратуру, от школы вообще ничего не останется: она станет настолько забюрократизированной и жесткой структурой, что первые люди, кому там станет несладко, это будут дети. Нужно более мягко работать. Человек должен понимать, с кем он может обсудить, он должен знать, где ему взять эти тренинги и протоколы. Что ему делать, если он не встретит поддержку и они скажут: «Да ладно, всё в порядке». То есть пока мы не дадим эти инструменты взрослым, мы не можем по большому счёту требовать от них, чтобы они занимались сексуальным просвещением детей. Максимум, что мы можем потребовать сейчас от них, – это чтобы они не транслировали гендерные стереотипы, не говорили всякие неправильные и неприятные вещи, которые могут повлиять на будущих детей.
Петрановская. С одной стороны, здесь есть наше государство, которое предлагает всем: «зажмурься, сделай вид, что ничего нет, и ничего не будет». И школа, которая перестраховывается и не пускает, и дальше начинается общественная волна «научат детей плохому». Другая сторона, — это дети, которые в силу доступа к большому количеству всего в интернете иногда, по крайней мере они так думают, очень много чего знают. А ещё есть их реальная жизнь, о которой мы на самом деле ничего не знаем. У меня был такой опыт, когда случился скандал вокруг книги «50 дней до моего самоубийства». Её запретили издавать и издательство попросило меня посмотреть, что это за книга и правда ли она подталкивает детей к самоубийству. Я прочитала её, и у меня была такая реакция: «Ну, как-то всё это… не может такого быть. У обычной девочки из обычной семьи… что только там у неё не случилось. Как-то это чересчур. И изнасиловать её пытались, и в перестрелку с наркоторговцами она попадала...». И я написала примерно такой отзыв, что книжка вроде более-менее безвредная, заканчивается там всё хорошо, и девочка не заканчивает жизнь самоубийством, но как литература это выглядит надуманной и развесистой клюквой. А через какое-то время, когда её уже издали, я общалась с человеком, который видел комментарии детей. И там были тысячи, тысячи комментариев, где говорилось: «Ну надо же, всё как в жизни. Это наша жизнь. Правда же кто-то написал, как на самом деле мы живём». То есть мы настолько ничего не понимаем, как у них в реальности, что не надо питать иллюзий, что даже те из нас, кто умеет произносить слово «пенис», хоть что-то себе представляет. А если мы говорим про нашу школу с тётеньками, которые реально там сидят, то там такая вилка с двух сторон: действительно, совершенно нормальными считаются скабрезные шуточки прямо на уроке, а, с другой стороны, слово «пенис» произнести нельзя, кроме как падая в обморок. С одной стороны, ханжество, а с другой стороны – реальная жизнь детей, которая очень далеко превосходит наши самые смелые представления. И нужно хоть как-то пытаться об этом говорить. Потому что как ты их будешь образовывать, если они считают, что они в десять раз круче и умнее, и, возможно, это правда так.
Кедрова: Мне кажется, что то, что должно быть основанием, это даже не непосредственно про сексуальность. Это по поводу телесности и границ, про которые можно говорить с начальной школы: понимание своего тела, как обращаться со своим телом, понимание того, что ты хозяин своего тела. И какая-то культура обращения: что ты решаешь, кто что может с тобой делать, а кто нет. Конечно, хорошо, когда это происходит в семье и на дошкольных уровнях, но это не должно вызывать каких-то протестов, потому что это безобидно и наглядно. А вторая вещь – это открыться и возможность обсуждать разные вещи, то есть это атмосфера взаимного уважения. За счёт чего она может вырасти – я не знаю. Может быть, если не изнутри школы, то снаружи, чтобы приходили какие-то люди, которые бы приходили и уважительно разговаривали с этими несчастными. Потому что правда это адская работа, и очень большой дефицит уважения. И мне кажется, если школы начнут делать сами какие-то этические комиссии, в которых можно будет обсуждать и прояснять непонятные вещи, касающиеся не грубого насилия или битья, а каких-то неоднозначных ситуаций. Может быть, это будут социальные работники или психологи, которые смогут создать нужную атмосферу, потому что у детей тоже может быть куча своих заморочек. В какой-то ситуации может быть очень выигрышно оговорить учителя: он тебя обидел, а ты на него пожаловался, и твоя двойка отомщена. В какой-то ситуации это реально может быть. И пространство, в котором это может обсуждаться… Даже если это возникнет в каких-то отдельных местах, это уже будет хорошо. А в глобальном плане, конечно…
Шварц: У меня житейский вопрос. Евгения говорила про издательскую деятельность, а я какое-то время назад решила купить своему ребёнку сексуальную энциклопедию. Ему 9 лет, и пора бы уже, даже уже поздновато. И невозможно. Это не мне так кажется, а их просто нет? Я не нашла ничего, кроме «Поговорить про это», что мне уже сразу претит, потому что это означает, что мы не будем разговаривать нормальными словами. И вот у меня вопрос: вроде бы сейчас так много независимых издательств, они издают прекрасные детские книги — это невозможно?
Заикина: На них стоит марка «18+».
Никонова: Я недавно обсуждала с подругой — у неё ребёнок в 1ом или 2ом классе, я уже не помню — она жаловалась как раз на то, что приходится выискивать книги, в которых было бы хоть что-то описано. Поскольку у неё совсем маленький ребёнок, ей нужны не столько технические моменты, а, действительно, про границы, про своё тело, про возможности. Этого фактически нет. Сегодня я разговаривала с подругой, которая мне жаловалась ровно на то же, и список книг она нашла у Даши Серенко во время «Тихого пикета». И это были книги, которые приходилось искать где-то по букинистам, потому что в открытой продаже их нет. Я сейчас готовлю проект для подростков, в котором хочу изложить многое. И первое, что я сделала, когда я его придумала, – нашла себе юриста. И заложила в бюджет первый штраф. Много штрафов я не потяну, но через первый смогу как-то проскочить. Это всё очень страшно, но если мы будем стараться, разговаривать, то, возможно, мы как-то сможем.
Шварц: Может быть, можно выкладывать сканы старых книг? Потому что я к тому пришла в итоге. Будем передавать друг другу книги.
Монастырская: Культура телесности начинается не в школе, а тогда, когда – самый типичный банальный пример: приходит бабушка, которая обожает своего внука, бежит к нему, давай его тискать и целовать, и никого не волнует, что этот внук по этому поводу чувствует. И если он сопротивляется – потому что кто-то уже и не сопротивляется - он получает в этот момент послание о том, что бабушкины добрые намерения важнее того, хорошо тебе это или плохо. И в том смысле, конечно, речь идёт о просвещении родителей, о том, как обращаться с чувствами ребёнка, который протестует, когда ты ставишь границу. Очень часто у родителей есть такое представление, что если я ставлю границу, то я и сам должен быть непроницаемый в этот момент. И тут у меня открытый вопрос. Понятно, что у нас есть родители, которые и так достаточно продвинутые. Есть, наоборот, родители, которые не готовы ничего знать, слушать и как-то себе понимать. И я не знаю, бывают ли инструменты, чтобы что-то донести до таких родителей. Но есть ещё такая прослойка родителей, которые интересуются, готовы, но пока ещё и себя не понимают, не уверены, и, может быть, пока не готовы к специалистам-психологам ходить. Вот здесь можно работать, может быть, через какие-то технологии вроде социальных роликов, которые могут показать аналогию между любимой бабушкой и абъюзером, который точно также сажает ребёнка к себе на колени. Которые могут показать рядом эти два явления, чтобы родители могли увидеть связь и подумать о том, как ему уже сейчас с маленьким ребёнком и с бабушкой об этом говорить. Мне кажется, это тоже важная часть работы.
Вопросы и выводы
Мне кажется, то, что касается близости, сексуальности, – это очень индивидуальная вещь. И если избегать внимания к таким вещам, как интимность, индивидуальность, и двигаться только в сторону открытости и законности, то мы упускаем одну очень важную составляющую. (Н. Кедрова)
Из зала: Меня зовут Лена, у меня двое детей, старшей дочери пять лет. Моя задача здесь – обезопасить свою дочь от всякого вида насилия. Ну, и чтобы сын тоже вел себя подобающе, когда вырастет. Здесь шла речь о том, что в школах вести разные занятия по сексуальному просвещению невозможно из-за этого закона. А есть ли возможность делать тренинги для детей разного возраста, чтобы родители отправляли своих детей на эти тренинги, и я как родитель подписывала бы согласие о том, что моему ребёнку сейчас что-то расскажут. И о том, что я, а не организаторы, несу ответственность за это. Пусть будет 18+, то есть я на себя взяла ответственность. И чтобы это было по-разному для разного возраста. Вот сейчас дочери пять лет, с ней тоже можно говорить о сексе. Она у меня с трёх лет спрашивает, откуда дети. В каком-то масштабе я ей это объясняю, насколько она может понимать. Возможен ли такой формат тренинга? Я думаю, что запрос от родителей будет, может быть, поначалу небольшой, но потом это будет распространяться.
Никонова: Основная проблема в том, что такие вещи прикрываются неявным способом. Я знаю один центр сексуального образования, который проводит курсы, в основном для женщин. У них есть курсы для ЛГБТ-пар. Они мне не рассказывали о подробностях по одной простой причине. Потому что если вскроется, что у них это происходит, то к ним начнут ходить санинспекция, пожарные, ими ещё больше заинтересуется налоговая и т.д. Нет никакого щелчка сверху: «Давайте погнобим это место». Но очень много препон, о которых все заранее понимают, поэтому решиться на это могут только какие-то очень защищённые люди. Если какая-то очень защищённая организация сможет этим заняться, было бы очень классно. Я бы, например, честно говоря, сама не взялась, потому что я не настолько защищена.
Макаров: Легально – нет, нельзя. Можно заниматься сексуальным образованием и просвещением с несовершеннолетними, но это будет нарушение федерального закона о защите детей от вредной информации. У нас есть несколько законов, по которым либо очень удобно жить, и вы их соблюдаете, либо вы их отправляете на те буквы, которые дети не знают, и занимаетесь тем, что считаете нужным. А чтобы глобально изменить ситуацию, нужно всего три человека: юрист, школьник и родитель. И подача жалобы в Конституционный суд на отмену этого закона. Только и всего. Как школьный учитель я регулярно нарушаю этот закон, потому что иначе невозможно преподавать обществознание, пользуясь этими дурацкими правилами.
Дарья Рыбина: Я по чистой случайности знаю, что такое мероприятие проходило сравнительно недавно, несколько месяцев назад. Спросили же не о проведении семинаров в школе — уже узнали, что в школе нельзя. Спросили: «А я как родитель могу дать своё согласие на то, что мой ребёнок посетит такую лекцию в частном порядке?». Такое мероприятие совсем недавно проходило в Москве. Это было в детском лектории Политехнического музея. Насколько я знаю, это не было никак спрятано от закона. Были отдельные группы для мальчиков и для девочек, для детей с 10 до 13 лет. Проводил, кажется, врач-гинеколог. Могу ошибаться, но точно помню, что врач. И родителей строго попросили подписать своё согласие накануне с тем, что он хочет, чтобы его ребёнок туда сходил. Я знаю, что оно прошло, что были отзывы родителей, что никакие не пришли ни казаки, ни милиция. Это было в рамках кружков по биологии и анатомии, но называлось вполне официально, что это была лекция по сексуальному просвещению для детей.
Из зала: У меня был вопрос по поводу закона об информационной защите детей, из-за которого так многое непонятно школьникам по поводу сексуального просвещения. Из-за него же в издательствах нет книг о сексуальном образовании. Например, мой друг работает в крупном издательстве, к ним приходит серенький такой фсбшник и говорит, что сказка с поцелуями – это 18+ и в плёнке. Но сказки пропускают, потому что если это было написано давно, то это ОК, а если это книга популярного американского писателя, где одно слово «пенис» на всю страницу, а дальше зайчики и прочее, то это не печатается. Хорошо, что здесь есть юристы. Сейчас довольно многие вещи говорились о курсах, о том, что надо рассказывать детям в школе о харассменте и абьюзе, о том, что нужно рассказывать преподавателям. Мне кажется, что большинство этих вещей как раз попадают под этот закон, и есть ли вообще шансы хоть что-то сделать в этой информации? Я вижу, что есть, но всё это какие-то очень косвенные пути. И да, у меня тоже есть подборка сканов книг про абьюз и прочее.
Макаров: Действительно, по поводу сказок. В законе написано, что если информация является значимой с культурной, художественной, исторической точки зрения, то закон на неё формально не распространяется. В реальности это не так: вы идёте в магазин, видите там книгу из школьной программы, на которой стоит возрастная маркировка и школьнику её не продают. Это абсолютная реальность. Можно брать какие-то классические тексты, с одной стороны. С другой — можно апеллировать к конституции, к праву на получение и распространение информации. Послушает ли вас суд – не факт. Но если будет много таких судов, то, может быть, законодатели этот закон как-то скорректируют. Максимум, что вам грозит, – это штраф. Проблема, скорее, в самоцензуре, в издательствах, которые не издают книжки или заменяют слова, потому что иначе нужно ставить «18+».
Из зала: Так случилось, что я учитель биологии. Я хочу сказать, что, вообще-то, когда проходят анатомию в 8 классе, есть тема о половой системе. И есть соответствующий параграф в учебнике. Не только в восьмом, между прочим, в четвёртом классе тоже. Там, правда, всё достаточно стерильно. До половой системы всё достаточно подробно: как мышцы работают, и всё такое, — а как только дело доходит до мужчины и женщины, то там написано, что у них разные роли в семье (смех в зале). Я вот вела уроки в четвёртом классе и поняла, что предстоит эта тема, — а мы очень подробно с детьми говорим. У нас замечательные отношения, и принято, что они задают вопросы, и я на них отвечаю. И я понимала, что не может не быть вопросов. И я заранее написала родителям: «Дорогие родители, у нас после выходных – та самая тема. Они в четвёртом классе, но они будут задавать вопросы, и я буду отвечать настолько, насколько я считаю нужным отвечать. Если вы хотели поговорить и всё время откладывали этот разговор, то самое время сделать это на этих выходных (смех в зале). Месяц в четвёртом классе была эта тема, она была вплоть до того, что мне школьники сказали: «На уроки без прокладки не приходить». Я носила её показывать. Был шквал вопросов, но они были не те, которых все боятся. Начиная с «зачем люди пол меняют» до «если яйцеклетки образуются каждый месяц, почему у меня брата до сих пор нет». А ещё ведь есть восьмой класс, где всё и в учебнике, и в программе описано очень подробно. И то, что, действительно, тётеньки стесняются говорить, а в учебнике написано, что эти параграфы – «возможно, для самостоятельного изучения». Возможно, но необязательно. Это предполагает, что если человек хочет сказать, он имеет такую возможность. Я про всё говорю: и про венерические болезни, и про беременность. И про то, что у меня есть знакомые десятиклассники – отцы, мы тоже говорим, обсуждаем, как с этим живётся. Потому что мы до этого говорим откровенно, и я не считаю, что я здесь в этот момент не должна того делать. Так что по закону здесь есть прямой и открытый путь, когда можно говорить. Если ваш ребенок в 8 классе, попросите учителя говорить, а не оставлять этот параграф для самостоятельного обучения. Для этого родительские собрания в школе бывают.
Заикина: А про гомосексуализм вы тоже рассказываете?
Из зала: Да. Я биолог, поэтому я могу говорить, советовать научно-популярные книжки.
Заикина: А это не считается пропагандой?
Из зала: А я не пропагандирую гомосексуализм. Я вообще не считаю, что его можно пропагандировать. Я же не говорю: «Давайте, все…». Я даю информацию.
Кедрова: Мне кажется, кроме информирования, что тоже очень важно, важна ещё такая вещь – это про регуляцию. И её мало кто использует — какое-то внимание к смущению. Потому что смущение – это регулятор близости. Когда человек видит смущение, он может остановить то, что для собеседника чрезмерно. Для каких-то детей разговор может быть интересен, а у каких-то может вызвать очень сильное смущение. Сейчас много шло речи о законах, о каких-то общих вещах. Мне кажется, то, что касается близости, сексуальности, – это очень индивидуальная вещь. И если избегать внимания к таким вещам, как интимность, индивидуальность, и двигаться только в сторону открытости и законности, то мы упускаем одну очень важную составляющую.
Солдатова: Спасибо всем большое, мы завершаем, и я бы хотела сказать, что я приглашаю всех к сотрудничеству. Если есть к этому интерес, то давайте делать какую-то площадку, на которой можно будет это обсуждать дальше, делать какие-то материалы, распространять их, возможно, делать полезные карточки о том, как выявить харассмент, показывать их детям, распространять между учителями. Хочется создать такую площадку, на которой можно было бы объединяться и дискутировать.
Таня (Sexprosvet 18+): А на sexprosvet.me мы сделаем книжную полку, на которую попросим вас присылать ваши сканы книг и т.п.
Никонова: Основная проблема в том, что такие вещи прикрываются неявным способом. Я знаю один центр сексуального образования, который проводит курсы, в основном для женщин. У них есть курсы для ЛГБТ-пар. Они мне не рассказывали о подробностях по одной простой причине. Потому что если вскроется, что у них это происходит, то к ним начнут ходить санинспекция, пожарные, ими ещё больше заинтересуется налоговая и т.д. Нет никакого щелчка сверху: «Давайте погнобим это место». Но очень много препон, о которых все заранее понимают, поэтому решиться на это могут только какие-то очень защищённые люди. Если какая-то очень защищённая организация сможет этим заняться, было бы очень классно. Я бы, например, честно говоря, сама не взялась, потому что я не настолько защищена.
Макаров: Легально – нет, нельзя. Можно заниматься сексуальным образованием и просвещением с несовершеннолетними, но это будет нарушение федерального закона о защите детей от вредной информации. У нас есть несколько законов, по которым либо очень удобно жить, и вы их соблюдаете, либо вы их отправляете на те буквы, которые дети не знают, и занимаетесь тем, что считаете нужным. А чтобы глобально изменить ситуацию, нужно всего три человека: юрист, школьник и родитель. И подача жалобы в Конституционный суд на отмену этого закона. Только и всего. Как школьный учитель я регулярно нарушаю этот закон, потому что иначе невозможно преподавать обществознание, пользуясь этими дурацкими правилами.
Дарья Рыбина: Я по чистой случайности знаю, что такое мероприятие проходило сравнительно недавно, несколько месяцев назад. Спросили же не о проведении семинаров в школе — уже узнали, что в школе нельзя. Спросили: «А я как родитель могу дать своё согласие на то, что мой ребёнок посетит такую лекцию в частном порядке?». Такое мероприятие совсем недавно проходило в Москве. Это было в детском лектории Политехнического музея. Насколько я знаю, это не было никак спрятано от закона. Были отдельные группы для мальчиков и для девочек, для детей с 10 до 13 лет. Проводил, кажется, врач-гинеколог. Могу ошибаться, но точно помню, что врач. И родителей строго попросили подписать своё согласие накануне с тем, что он хочет, чтобы его ребёнок туда сходил. Я знаю, что оно прошло, что были отзывы родителей, что никакие не пришли ни казаки, ни милиция. Это было в рамках кружков по биологии и анатомии, но называлось вполне официально, что это была лекция по сексуальному просвещению для детей.
Из зала: У меня был вопрос по поводу закона об информационной защите детей, из-за которого так многое непонятно школьникам по поводу сексуального просвещения. Из-за него же в издательствах нет книг о сексуальном образовании. Например, мой друг работает в крупном издательстве, к ним приходит серенький такой фсбшник и говорит, что сказка с поцелуями – это 18+ и в плёнке. Но сказки пропускают, потому что если это было написано давно, то это ОК, а если это книга популярного американского писателя, где одно слово «пенис» на всю страницу, а дальше зайчики и прочее, то это не печатается. Хорошо, что здесь есть юристы. Сейчас довольно многие вещи говорились о курсах, о том, что надо рассказывать детям в школе о харассменте и абьюзе, о том, что нужно рассказывать преподавателям. Мне кажется, что большинство этих вещей как раз попадают под этот закон, и есть ли вообще шансы хоть что-то сделать в этой информации? Я вижу, что есть, но всё это какие-то очень косвенные пути. И да, у меня тоже есть подборка сканов книг про абьюз и прочее.
Макаров: Действительно, по поводу сказок. В законе написано, что если информация является значимой с культурной, художественной, исторической точки зрения, то закон на неё формально не распространяется. В реальности это не так: вы идёте в магазин, видите там книгу из школьной программы, на которой стоит возрастная маркировка и школьнику её не продают. Это абсолютная реальность. Можно брать какие-то классические тексты, с одной стороны. С другой — можно апеллировать к конституции, к праву на получение и распространение информации. Послушает ли вас суд – не факт. Но если будет много таких судов, то, может быть, законодатели этот закон как-то скорректируют. Максимум, что вам грозит, – это штраф. Проблема, скорее, в самоцензуре, в издательствах, которые не издают книжки или заменяют слова, потому что иначе нужно ставить «18+».
Из зала: Так случилось, что я учитель биологии. Я хочу сказать, что, вообще-то, когда проходят анатомию в 8 классе, есть тема о половой системе. И есть соответствующий параграф в учебнике. Не только в восьмом, между прочим, в четвёртом классе тоже. Там, правда, всё достаточно стерильно. До половой системы всё достаточно подробно: как мышцы работают, и всё такое, — а как только дело доходит до мужчины и женщины, то там написано, что у них разные роли в семье (смех в зале). Я вот вела уроки в четвёртом классе и поняла, что предстоит эта тема, — а мы очень подробно с детьми говорим. У нас замечательные отношения, и принято, что они задают вопросы, и я на них отвечаю. И я понимала, что не может не быть вопросов. И я заранее написала родителям: «Дорогие родители, у нас после выходных – та самая тема. Они в четвёртом классе, но они будут задавать вопросы, и я буду отвечать настолько, насколько я считаю нужным отвечать. Если вы хотели поговорить и всё время откладывали этот разговор, то самое время сделать это на этих выходных (смех в зале). Месяц в четвёртом классе была эта тема, она была вплоть до того, что мне школьники сказали: «На уроки без прокладки не приходить». Я носила её показывать. Был шквал вопросов, но они были не те, которых все боятся. Начиная с «зачем люди пол меняют» до «если яйцеклетки образуются каждый месяц, почему у меня брата до сих пор нет». А ещё ведь есть восьмой класс, где всё и в учебнике, и в программе описано очень подробно. И то, что, действительно, тётеньки стесняются говорить, а в учебнике написано, что эти параграфы – «возможно, для самостоятельного изучения». Возможно, но необязательно. Это предполагает, что если человек хочет сказать, он имеет такую возможность. Я про всё говорю: и про венерические болезни, и про беременность. И про то, что у меня есть знакомые десятиклассники – отцы, мы тоже говорим, обсуждаем, как с этим живётся. Потому что мы до этого говорим откровенно, и я не считаю, что я здесь в этот момент не должна того делать. Так что по закону здесь есть прямой и открытый путь, когда можно говорить. Если ваш ребенок в 8 классе, попросите учителя говорить, а не оставлять этот параграф для самостоятельного обучения. Для этого родительские собрания в школе бывают.
Заикина: А про гомосексуализм вы тоже рассказываете?
Из зала: Да. Я биолог, поэтому я могу говорить, советовать научно-популярные книжки.
Заикина: А это не считается пропагандой?
Из зала: А я не пропагандирую гомосексуализм. Я вообще не считаю, что его можно пропагандировать. Я же не говорю: «Давайте, все…». Я даю информацию.
Кедрова: Мне кажется, кроме информирования, что тоже очень важно, важна ещё такая вещь – это про регуляцию. И её мало кто использует — какое-то внимание к смущению. Потому что смущение – это регулятор близости. Когда человек видит смущение, он может остановить то, что для собеседника чрезмерно. Для каких-то детей разговор может быть интересен, а у каких-то может вызвать очень сильное смущение. Сейчас много шло речи о законах, о каких-то общих вещах. Мне кажется, то, что касается близости, сексуальности, – это очень индивидуальная вещь. И если избегать внимания к таким вещам, как интимность, индивидуальность, и двигаться только в сторону открытости и законности, то мы упускаем одну очень важную составляющую.
Солдатова: Спасибо всем большое, мы завершаем, и я бы хотела сказать, что я приглашаю всех к сотрудничеству. Если есть к этому интерес, то давайте делать какую-то площадку, на которой можно будет это обсуждать дальше, делать какие-то материалы, распространять их, возможно, делать полезные карточки о том, как выявить харассмент, показывать их детям, распространять между учителями. Хочется создать такую площадку, на которой можно было бы объединяться и дискутировать.
Таня (Sexprosvet 18+): А на sexprosvet.me мы сделаем книжную полку, на которую попросим вас присылать ваши сканы книг и т.п.